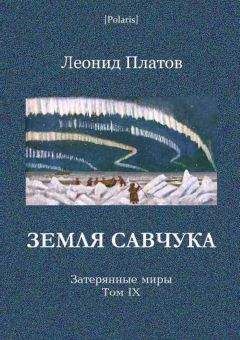— Можно выстрелить из него? — спросил пастух.
— Конечно, можно, но это не доставит тебе удовольствия, так как путь мой велик, а запас патронов мал, и мне ничем будет отбиваться от диких зверей, — дипломатично отказал Бушуев.
Курд не настаивал на своей просьбе, а только спросил:
— Куда ты идешь?
— Сейчас к шейху Юсуфу… Не знаешь ли, где его оба?..[3] — задал вопрос Бушуев.
— Я пасу его стада, — ответил курд. — Но увидеть шейха Юсуфа сегодня тебе не удастся. Его нет сейчас.
— Где же он?.. — с беспокойством спросил Бушуев.
— Он уехал в горы и завтра вернется… А ты откуда знаешь шейха Юсуфа? — поинтересовался пастух.
— Большую гору видят и знают даже те, кого сама она не замечает!
В ложбине у ручья Бушуев увидел притаившиеся черные палатки курдов.
При приближении незнакомого человека смолк веселый смех и звонкий говор.
Несколько женщин в немом изумлении застыли у палаток и внимательно осматривали нового и необычного для этих мест пришельца. Полуголые детишки цеплялись за грязные одежды матерей и любопытно впивались глазами в Бушуева.
— День твой с добром!.. — приветствовал Бушуев старшую из женщин.
— Ты с добром пришел!.. — ответила она на приветствие.
Курд-пастух ввел Бушуева в первую палатку, разостлал около трех закопченных камней очага войлок и усадил гостя.
Быстро были принесены овечий сыр, кислое молоко и хлеб.
Бушуеву не хотелось есть, но правила приличия пасту- шествующего народа требовали иного. Бушуев с притворным аппетитом и жадностью ел и все хвалил, доставляя удовольствие курду.
А когда принесенная пища была наполовину съедена, Бушуев отодвинул остатки и проговорил устало:
— Я много прошел по горам и мало спал прошлую ночь…
Курду-пастуху хотелось поговорить, но усталый вид Бушуева и необходимость дать гостю отдохнуть заставили его отказаться от своего желания. Курд разостлал еще несколько войлоков, устроил удобное ложе и тихо вышел.
Бушуев вытянулся на войлоках. Захрустели расправляющиеся кости, и тело застыло в неподвижности. Зашумела кровь в ушах и стихла.
Смолкло сердце, не слышно беспокойного шума крови, но мысли не затихли. Неустанная мысль работала попреж- нему. Какой чорт швырнул его в это место и зачем?.. Какие причины двигали им, заставили покинуть культурные центры и променять их на эту первобытную глушь и дикое запустение?
На эти вопросы Бушуев не сумел бы дать себе ответа. Прошлое казалось ему только странным сном, и все, что было связано с прошлым, также представлялось чем-то невероятным и непонятным. Если бы взять его вот такого, каков он сейчас, и перенести туда, где людям служат пар и электричество, где люди живут в каменных домах с застекленными окнами, с большими дверями, сидят на стульях, спят на кроватях, а при еде пользуются тарелками, ножами и вилками, то он, перенесенный в такую обстановку, почувствовал бы себя скверно. Так же скверно, как почувствовал бы он себя раньше в том случае, если бы его, голого, неожиданно вытолкнули в толпу разодетой публики.
Раньше он был Григорием Петровичем Бушуевым, а теперь он называл себя только Кригором и не представлял себе, что его можно называть как-нибудь иначе. Раньше он был человеком с определенной профессией, а теперь он — человек безо всякой профессии, так как в той среде, в которой он вращался, еще не возникли и не сформировались профессии. И кажется он себе человеком только в хорошие часы своей жизни, так как сплошь и рядом у него бывают моменты, когда он сомневается даже в том — человек ли он на самом деле?.. Может быть, нет и не было ни Григория Петровича Бушуева, ни хорошо провяленного на закавказском солнце Кригора, непричастного ни к какой профессии, а есть только бред и мираж?..
Когда у Бушуева начинался приступ малярии, его мысль всегда возвращалась к минувшему. Это явление он даже считал каким-то малярийным предвестником, и в обычное время приемом хины стремился парализовать развитие болезни.
Но сейчас Бушуев не мог сделать этого: запас хинина давно был израсходован, и он покорно прислушивался к творившейся в его организме разрушительной работе. Как будто размякли кости, стали жидкостью мышцы. Что-то теплое и густое переливалось по всему телу. Все сильнее и чаще стучит сердце, и словно торопится догнать что-то, ушедшее давно и далеко. Шумит кровь в голове и туманит сознание. Из тумана рождаются смутные пятна. Пятна оформляются, разлагаются на свет и тень. Пятна превращаются в образы…
А около палаток шла жизнь, простая, понятная, первобытная.
Вернулось с пастбища огромное стадо овец и принесло с собой пыль и густой запах потной, немытой шерсти.
В тревожно подвижное стадо веселыми звонкоголосыми хищниками врезались дети. Они отделили самок и гнали их к месту удоя.
Доили овец с левой стороны палаток. Таков был веками установленный обычай. Здесь лежит камень, на котором, как на жертвеннике, сидит человек. Он хватает трепещущую овцу за шею и держит ее, а две женщины, расположившиеся перед камнем, быстро и ловко освобождают овечье вымя от накопленного за день молока.
Гаснет день. Кончена хлопотливая и незамысловатая работа.
Пред дверью палатки привязаны на ночь лошади. За ними поставлен рогатый скот.
Между трех камней очагов вспыхнули огни. Они тлели весь день, прикрытые пеплом, а теперь вырвались наружу и жадно накинулись на подложенное топливо.
На смену дню, ясному и светлому, пришла таинственная для первобытного ума ночь. Ночь погасила солнце и разбросала по небу тысячи огненных искр. Ночь закрыла все темнотой и сделала беспомощными глаза.
У огня собрались притихшие люди. Кто-то достал бамбуковую флейту. Жалобная мелодия серебряными ручейками потекла в ночную темноту.
Ближе к спасительному огню подвинулись люди. Тревожные мысли овладевают ими.
Кто этот таинственный человек, пришедший неизвестно зачем и неизвестно откуда? Он явился, как камень, скатившийся с горных вершин. Он ничего не сказал о себе…
Курд-пастух поднимается и идет в палатку.
— Слушай, человек!.. — говорит он Бушуеву: — Пойдем к огню. Будем есть и пить…
Молчит человек. Он тяжело дышет, стонет.
Пред затуманенным сознанием Бушуева проходит то, что было так недавно. Перед ним тот путь, по которому он дошел до этих затерянных среди гор палаток.
Широкая долина похожа на огромный медный таз, поставленный на жаровню.
Все высушено, сожжено, а солнце с возрастающей силой продолжает лить свет и тепло.