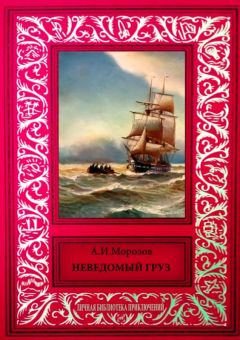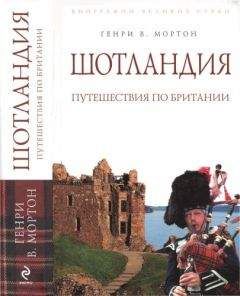У женщины было красивое, сейчас очень суровое лицо. Совсем не такой представлялась Гребневу жена директора сейсмической станции. Она молча повернулась к Синей скале, вздымавшейся над городом в желтоватой дымке — грозной, обреченной…
— Есть ли у вас вещи? Может быть, что-нибудь, необходимое вам, уцелело в развалинах?
— Я спасла самое ценное, — ответила женщина, показывая несколько толстых рукописей и довольно большой прибор в кожаном футляре. — Это труды моего мужа и аппарат, изобретенный им, — гордо добавила сна.
Бережно взял Гребнев из рук женщины тяжелый сверток, плод многолетнего труда, не нужный никому в мире, кроме нее, — даже человеку, оставшемуся на Синей скале и в решительный час проклявшему свое прошлое…
На берегу заждались: «Магона», дымившая всеми трубами, стояла уже на рейде, и у причала мола тревожно стучал мотор последнего катера, за рулем которого сидели Су-Тэн и Лay. С удивлением Гребнев увидел на носу катера донельзя оборванного корреспондента «Успеха».
— О! — воскликнул Гребнев. — И вы здесь?.. Разве это не вы несколько дней назад напечатали в вашей газете «Гимн смерти»? Как там было сказано? «Удивительно, сколько людей все свои силы тратят на борьбу со смертью?»
— Не совсем точно… — пробормотал, корреспондент— Не совсем точно.
— Возможно, переставил какое-нибудь слово. Но не боитесь ли вы, что в Мегре остался кто-нибудь из ваших поклонников? Не следует ли вам на практике доказать верность своим убеждениям— Такая блестящая: возможность — покинуть эту «нудную жизнь» среди разбушевавшейся стихии — представляется ведь довольно редко…
Корреспондент молчал. Неподвижным взглядом смотрела жена директора сейсмической станции на Синюю скалу, поворачивая к ней лицо, когда катер менял направление. Борт «Магоны» приближался с каждой минутой.
Тилл поднял голову, глянул на Мегру, окутанную серой дымкой пыли. Значит, он действительно «счастливчик Тилл», если уцелел и остался верен Сорвингу! Теперь ему будет что порассказать у микрофона!
* * *
Минуло около месяца. Николай Григорьевич Крылов вошел в Институт имени Петрова. Проходная ни чем не отделялась от вестибюля и стол вахтера был расположен недалеко от входной двери. По бокам тянулись длинные коридоры нижнего этажа. Лестница на второй и третий этажи упиралась в широкую площадку с двумя старыми большими пальмами. Институт в этот час уже опустел.
В своем кабинете, тихом и спокойном, Крылов, как всегда, просмотрел сообщения о землетрясениях, принесенных телеграфом и радио со всех углов земного шара, потом взял толстую папку с начатой работой, которая должна была сыграть большую роль в науке о предсказании землетрясений. В этой папке лежали и журнал сейсмической станции «Мегра» в красном кожаном переплете, и последние сообщения, переданные ее директором, и дневники Гребнева, и множество сейсмограмм. Но, перебирая эти бумаги, Крылов думал сейчас только о людях, спасенных на раздробленном землетрясением далеком острове, о гибели которого в газетах было написано всего лишь несколько строк…
Когда Василию исполнилось двенадцать лет, отец, флота капитан-лейтенант Сергей Петрович Сидоров, подарил ему толстую-претолстую книгу. На кожаном потертом переплете было вытиснено давно потускневшим золотом «Histoire des naufrages».
Василий поцеловал руку отца, Потом без особой радости в голосе прочел: «История»… «История»…
Незнакомое слово показалось мальчику скучным и тяжелым, как булыжник мостовой.
— «История кораблекрушений». В двух французских словах заблудился! Я чуть постарше тебя был — в Лондоне, Лиссабоне, Марселе мог понять любого встречного, даже пьяного… Неучем растешь!
Взяв растрепанный словарь, мальчик сел у окна. «Разве можно судить о знаниях человека по одному случайному слову?» Василий поглядел на стекла, затянутые морозными узорами, и со вздохом самоотречения раскрыл «Историю».
…Может, это был тот особенный день, когда многое способно оставить в душе глубочайший след и даже изменить привычное течение жизни, а может, и сама «История» обладала удивительной, колдовской силой. Она то говорила с мальчиком лаконичным, четким языком корабельных журналов, то как будто тянула заунывную матросскую песню; от слов этой песни, чужих и ярких, сладко замирало сердце. А то вдруг в тихую комнату, где в печке уютно потрескивали дрова, врывался крик боли и отчаяния, раздавался вопль о помощи. Напрасный призыв, постепенно замиравший…
Отрываясь от пожелтевших страниц, Василий с удивлением смотрел на мутное, льдистое стекло — ведь только сейчас перед ним расстилался песчаный берег, раскаленный солнцем, только сейчас он видел буревестников, легко, словно призраки, бегущих по волнам…
Когда умирала мать Василия, Сергей Петрович клятвенно обещал ей никогда не рассказывать сыну о своих плаваниях. Он сдержал слово. Он даже сделал больше. Чтобы навсегда оттолкнуть Василия от моря, он познакомил его со страшной стороной жизни моряка, с бедствиями, грозящими каждому, кто вверяет свою судьбу волнам и ветру. Так в чем оке вина капитана, если мальчишка, едва дочитав «Историю», убежал из дому и только перед самым отходом был обнаружен в трюме корабля, направлявшегося в Вест-Индию? После этого оставалось одно: уступить Василию и отдать его в Кронштадтский морской корпус, где в свое время учились его отец и дед.
Три года кадетских классов, три года гардемаринских — как будто совсем немного. Но моряки говорили, что человека, выдержавшего эти шесть лет, в дальнейшем очень трудно чем-либо испугать.
Единственным и горьким утешением избалованного сына Сергея Петровича в корпусе было чтение на ночь «Жития святых великомучеников»: кадетам в тумбочке у кровати разрешалось держать лишь какую-нибудь священную книгу.
Немного привыкнув к окружающему, Василий решил воспринимать все как первое в жизни кораблекрушение и считать увенчанное башней здание корпуса плотом, на котором в бурном житейском море терпят бедствие несколько сот кадетов и гардемаринов.
Зимой в корпусе царил страшный холод, и кадеты по ночам добывали дрова на соседних складах. Василий Сидоров внес в опасные ночные операции романтику, придумав бить поленья гарпуном, взобравшись на высокий забор. Гарпун требовалось вонзить так, чтобы тяжелые поленья не срывались с зазубренного острия, когда их тащили через забор.