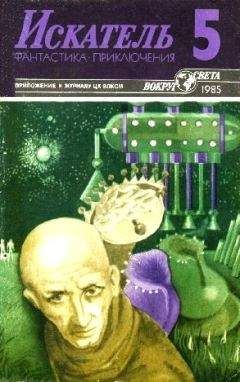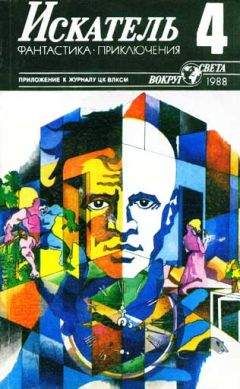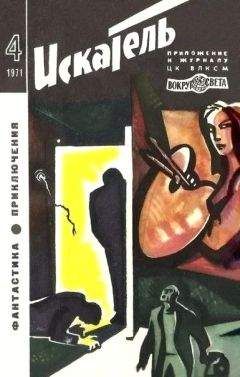Лишь после этих последних объяснений с ее стороны и оплаты счета с моей стороны: «Раз вы все равно вытащили портмоне, неплохо бы, если бы уже сейчас вы дали мне двадцать монет, мой мальчик», — мы наконец оставляем кафе и выходим на воздух.
Ее зовут Кети, если верить кельнеру, который называл ее так с не слишком почтительной интимностью. Ее зовут Кети, и живет она совсем рядом, точнее, в маленькой гостинице на другом конце улицы. Во всяком случае, она приводит меня именно в эту гостиницу, и мы проходим, не останавливаясь, мимо окошка администратора, поднимаемся на второй этаж и оказываемся в комнате с плотно закрытыми занавесками и затхлым воздухом, насыщенным ароматом дешевого одеколона.
«Наконец-то постель», — думаю я, когда Кети щелкнула выключателем. Приближаюсь неуверенными шагами к элементу меблировки и блаженно вытягиваюсь поверх покрывала из искусственного шелка.
— Могли бы хоть ботинки снять, мой мальчик, — замечает дама с просто поразительной наблюдательностью, если принять во внимание количество выпитого.
— Не будьте мелочны, — говорю я.
Туман окутывающей меня дремоты мешает видеть подробности начавшегося стриптиза. Это, может, и к лучшему, поскольку дряблая, увядшая плоть, которая постепенно обнаруживается под кружевным черным бельем, что-то не особенно обольстительна.
— Надеюсь, вы не страдаете разными там болезнями… — слышу откуда-то издалека голос, все еще требующий смазки.
— Я хочу спать, Кети, — отвечаю сонно, чтобы перевести разговор на более нейтральную тему.
— Так и знала, что вы извращенец, — произносит она с укором. — Пришли посмотреть, как я раздеваюсь, а сейчас хотите спать…
И правда хочу. Только мне не удается. Потому что не успела отзвучать последняя реплика, как в дверь, оказавшуюся почему-то незапертой, врываются два здоровенных парня.
— Ах, стерва! — рычит один. — Посмотри на эту стерву, Том! Посмотри и запомни, Том!
Спасибо еще, что сон не окончательно меня сразил. Быстро вскакиваю, но тут же снова оказываюсь в постели, рухнув туда после соприкосновения с кулаком разъяренного незнакомца.
— Оставь человека, Питер, — осмеливается возразить Кети. — Между нами нет ничего такого, что…
К сожалению, застывшая в почти голом виде посреди комнаты, моя защитница не выглядит очень убедительной в аргументации своей невиновности, не говоря уже о том, что на нее никто не обращает внимания. Питер вновь склоняется ко мне, что дает возможность моему ботинку ознакомиться с его физиономией. И когда он машинально хватается за раскровавленный рот, другой ногой я проверяю прочность его пресса. Легкой растерянности в лагере противника достаточно, чтобы я наконец мог вскочить с этой неудобной в данной ситуации постели.
Итак, я вскакиваю. И натыкаюсь на кулак Тома. Достаточно крепкий кулак, вынуждающий меня отступить и опереться на ближайший стул. В следующую секунду стул разбивается о голову Тома. Увы, она не менее крепкая, чем кулак. Том шатается, но не падает. Падаю я от соприкосновения моего темени с каким-то твердым предметом — за моей спиной Питер вновь пришел в действие.
Умалчиваю об остальных подробностях, чтобы не возбуждать низменных инстинктов. Я несколько раз пытаюсь подняться с пола, но безуспешно. Эти двое, очевидно, располагают сейчас минимум двадцатью конечностями каждый, ибо куда ни повернусь, везде меня ждет пинок. Кажется, последний из них был самый сильный и угодил мне в голову. Думаю, это было так, хотя точно сказать не могу, поскольку теряю сознание.
Понятия не имею, сколько прошло времени и что было со мной перед тем, как я пришел в себя. Первая мысль: если эта дикая боль — жизнь, едва ли стоит брать на себя труд оживать. Боль неравномерно распределяется по всему телу, но львиная доля ее приходится на голову.
Вторая мысль: в комнате что-то холодно и сильно дует. Проходит немало времени, прежде чем я открываю глаза и вижу, что лежу на тротуаре в темном углу улицы. «Открывать глаз» — было бы более точно сказано, поскольку сейчас я был в состоянии открыть только один глаз из нерасчетливо используемой ранее пары.
Третья мысль самая неприятная. Жизнь всегда подбрасывает самое неприятное к концу, на десерт. Когда, подавляя страшную боль, стискиваю зубы окровавленного рта и привожу в движение руки, чтобы проверить содержимое в кармане, я обнаруживаю, что они пусты.,
Вновь опускаюсь на холодные плиты тротуара, поскольку эти движения полностью исчерпали мои силы и в голове у меня карусель и поскольку последнее открытие подействовало на меня, как удар в печень. В десяти шагах от меня уличная лампа безучастно посылает свои лучи в темноту. Сквозь полуопущенные веки эти лучи кажутся мне в моем зыбком мировосприятии огромными щупальцами отвратительного белого паука, беспощадно тянущимися ко мне, чтобы схватить и уничтожить.
Итак, распростертый на тротуаре, избитый до полусмерти, ограбленный и лишенный какой бы то ни было бумаги, удостоверяющей мою личность, я начинаю новую жизнь на новом месте.
— Бедняга, из него сделали котлету, — слышу как сквозь сон над собой мужской голос.
— Клиент созрел для морга, — говорит кто-то другой.
— Нужно убрать его отсюда, Ал, — произносит первый субъект, — Грех оставлять человека на улице.
— Пускай лежит, — отзывается второй. — Ему место в морге.
— Нет, все же нужно его взять, — решает после паузы первый. — Отнесите его вниз и попробуйте подлатать…
— Как скажете, мистер Дрейк, — соглашается второй.
Не знаю, что такое «вниз», но чувствую, что сильные руки поднимают меня, как вязанку дров, и куда-то несут. Разница в данном случае только в том, что дрова не испытывают боли, в то время как я от грубых объятий незнакомца и тряски чувствую, что мне вновь становится как-то очень нехорошо.
Мои дальнейшие переживания представляют собой чередование мрака и света, причем минуты мрака куда желаннее, они несут забвение, минуты же света наполнены обжигающей болью. Очевидно, целебной болью, я чувствую, как кто-то промывает мне раны и перевязывает их, но все равно это боль.
Когда наконец я окончательно прихожу в себя, наступает день. Не знаю, какой именно, но день, потому что сквозь окошечко под потолком в помещение падает сноп света, подобный свету прожектора в темном кинозале. Но помещение, где я лежу, совсем не похоже на кинозал, если не считать полумрака. Это какая-то камера, почти целиком занятая пружинным матрацем, на котором я лежу, и фигурами двух мужчин, склонившихся надо мной.
Эти двое не похожи на лекарей. Более того, с моей — лежачей — точки зрения они имеют вид достаточно устрашающий. Они разного роста, но одинаково плечистые, у них одинаково низкие лбы и мощные челюсти, а две пары маленьких темных глаз смотрят на меня с холодным любопытством.