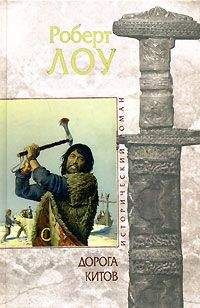— Сколько же лет прошло, прежде чем на этом бугорке, некогда бывшим крыльцом, выросли деревья? — вслух размышлял я, с трудом раздвигая ветви природных часовых, заслонившие вход в барак с развалинами кирпичных печей. Оловянные, алюминиевые чашки, подёрнутые мхом, плоские тарелки, горками составленные под стеной, выглядывали из зарослей крапивы. Очевидно, здесь была столовая. Я освободил от мха одну из них, протёр пучком травы. На донышке отчётливо проступила надпись: «З-д Металлист 1935».
С опаской поглядывая на прогнувшийся потолок, сохранивший кое–где пятна известковой побелки, я выбрался наружу с обыкновенной алюминиевой миской, за временем лет ставшей раритетом. Только зачем она мне? Походной посуды мне и своей достаточно. Поразмыслив, я зашвырнул миску, направляясь к другому бараку. Страсть археолога проснулась во мне. Или простое любопытство, сопряжённое с волнением и боязнью, подвигало меня проникнуть в тайну этого странного объекта.
В следующем бараке, низком и длинном, с прогнившим полом, с двумя грубо отёсанными брёвнами, служившими, видимо, парадными колоннами, готовыми уже вот–вот рухнуть, под слоем мшистых досок и обвалившейся штукатурки я обнаружил сопревшую, слежавшуюся в плотные комки бумагу. Бесформенная масса трухи, некогда бывшей книгами. А вот и остатки стеллажей — ржавые каркасы, покрытые рыжеватым мелким мхом. Что здесь было? Библиотека? Изба–читальня?
Роясь в куче неразделяемых рыхло–прелых листов, я не терял надежду отыскать в ней что–нибудь более–менее сохранившееся. И старания мои были вознаграждены «Мёртвыми душами» Н. В. Гоголя, «Обломовым» И. А. Гончарова и «Евгением Онегиным» А. С. Пушкина. Без обложек, источенные мышами по краям страниц, под листом оцинкованной жести эти ветхие книги преданно берегли в печатных словах мысли великих классиков русской литературы. На их титульных листах значился 1938‑й год.
Чьи руки прикасались к этим скромно изданным книгам? Кто вчитывался в эти полинялые строки? Кто пробегал глазами по их корешкам, блестевшим бронзой названий? Кто коротал с ними непроглядную вьюжную ночь при свете коптилки у горячей печурки?
Может быть, этот «кто–то» нашёл последний приют на гнетущем душу острове под одним из бугорков, что попадались мне на пути к баракам?
Я снял с себя камуфляжную куртку, бережно завернул в неё свои находки и вернулся к плоту.
Тихий тёплый вечер обещал ночь без дождя.
Быстро темнело. Пламя костра, возле которого я устроился на перевёрнутом вверх дном ведре с картой на коленях, высвечивало плот–катамаран, палатку, блики его отражались в реке.
Я развернул карту, надел очки и вгляделся в её замысловатые узоры, прикинул циркулем пройденное расстояние, ножка которого остановилась на крохотном зелёном пятачке. «о. Назинский», — прочитал я и невольно втянул голову в плечи: так вот куда занесла меня нелёгкая! Остров Смерти, как называют его аборигены этих мест! О том, что на острове Назинском располагался в годы сталинских репрессий лагерь политзаключённых, я слышал давно. Но вот воочию увидел его, представил лай сторожевых собак, окрики конвоиров, согбенные спины худых, понуро бредущих людей, морозную звёздную ночь, вышки с часовыми в окружении заснеженных болот, и жуткая оторопь мурашками пробежала по телу.
Мне расхотелось сидеть у костра. Я подбросил в него мокрого плавника, чтобы дым отгонял комаров, нырнул в палатку и скоро заснул…
…Забрезжил рассвет. И вот новый день и новая пища — на сей раз — для размышлений, поскольку основная еда у меня по–прежнему лапша «Роллтон». И первая запись в дневнике:
«29‑е июня, пятница, 11.00. Описывать, не мудрствуя лукаво то, чему был свидетелем». Кажется, я уже когда–то слышал эти слова. А может, они мои собственные? Но прежде, чем обратиться к далёким событиям столь же далёкой моей молодости, свидетелем которых был, вернусь в день сегодняшний, который не радует погодой. Вчерашний тихий и тёплый вечер, не предвещавший ненастья, оказался обманчив. Всю ночь косые струи моросящего дождя шуршали по целлофану, накинутому на палатку. Льёт дождь и сейчас.
12.30. Прогудел моторами «Метеор‑182», из Александровского на Каргасок пошёл. В салоне теплохода дремлют пассажиры. Нет им дела до седобородого старикашки–романтика, потерявшего страх, чтобы отчаяться на одиночное плавание на плоту из двух резиновых лодок. И уж подавно глубоко начхать им на исповедь странствующего отшельника, на его последнюю попытку рассказать мнимому читателю о плавании по реке–жизни.
15.10. Подшил пуговицы, заштопал носки. Решил пообедать остатками вчерашнего ужина, но каша испортилась, выбросил. Допил кисель, с тем и пойду дальше, потому что сидеть в палатке в ожидании погоды уже надоело. Донимают комары. Надел прорезиненный костюм, сапоги. Собираю и складываю на катамаран вещи.
Небо в грязных тёмно–серых облаках. Река пенится волнами, свежий ветер срывает верхушки с их гребней. Ворона нескладно машет крыльями, словно и не летит вовсе, а неуёмный ветер швыряет её и тряпкой несёт над сырым лесом. Сильный ветер — предвестник солнца, голубого неба и зноя. Он разгонит тучи.
15.30. При ужасном волнении на реке покидаю травянистый берег печального острова Назинский — острова страданий безвестных узников. Виновных или безвинных, поди теперь разбери?!
Вспомнилось капустное поле совхоза «Женьшень» в Анучинском районе Приморского края и его главный агроном — высокий, худой, немногословный мужчина с белой как у луня головой.
Отряжённый редактором газеты «Восход» Волосастовым Виктором Сергеевичем в качестве корреспондента сельхозотдела, я приехал в «Женьшень» взять интервью у этого знатного полевода, вырастившего большой урожай капусты. Невиданной величины тугие кочаны красовались в кузовах автомобилей, увозящих капусту с поля.
— Как вам удалось получить такую крупную капусту? — спрашиваю.
— Эка невидаль! — отвечает агроном. — В «Гулаге», бывало, и получше выращивал. В Томской области «двадцатку» отбыл…
И он поведал мне ужасную историю своей безрадостной жизни, в которой вместо счастливого смеха было много слёз.
— Весной тридцать седьмого… В конце апреля… Ещё кое–где снег лежал на полях, — спокойно начал свой рассказ агроном. — Сосед вечерком пришёл ко мне. Сидим, пьём самогонку. Ну, я возьми и скажи: «Райком сеять заставляет, а земля не отошла от зимы, не прогрелась. Нельзя в такую холодную пашню семена бросать, замрут и не взойдут. Да разве в райкоме понимают? Им отчитаться перед обкомом надо». А сосед и говорит мне: «А что они там в обкоме понимают? Им бы Сталину поскорее доложить!». Ну, я возьми и скажи: «А Сталин знает когда сеять? Сидя в Кремле, он, что, разбирается в агрономических сроках нашего района?!». Тут сосед и отвечает мне: «Верно, Степан Иваныч, какого хрена Сталин понимает в весеннем севе? А райкомовские да обкомовские подумали бы своими глупыми башками, что сейчас зерно в землю бросать — только губить!». Сказал так и домой засобирался. Проводил я его и думаю: «Надо бы пойти в район, заявить на соседа в ГПУ. Не то он на меня вперёд заявит. Больно много языками натрепали». Выглянул я на улицу: ночь беспросветная, грязь, распутица, мокрый снег валит. А до района двадцать километров чапать… Уехать не на чем… Не пойдёт сосед в такую погоду стучать на меня… И лёг я спать. А под утро гэпэушники нагрянули. «Собирайся!» — приказали мне. Я только и успел сказать жене: «Не жди, выходи замуж». Она глаза вытаращила, ничего не понимает. Забрали меня. Десять лет без права переписки всучили. Не поленился сосед в ту ночь… А я за свою лень почти двадцать лет отсидел. В пятьдесят шестом году реабилитировали. После хрущёвского выступления на двадцатом партсъезде о культе личности Сталина освободили меня.