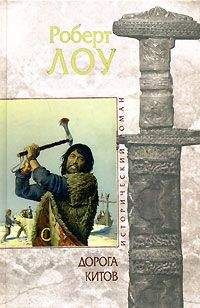— Как вам удалось получить такую крупную капусту? — спрашиваю.
— Эка невидаль! — отвечает агроном. — В «Гулаге», бывало, и получше выращивал. В Томской области «двадцатку» отбыл…
И он поведал мне ужасную историю своей безрадостной жизни, в которой вместо счастливого смеха было много слёз.
— Весной тридцать седьмого… В конце апреля… Ещё кое–где снег лежал на полях, — спокойно начал свой рассказ агроном. — Сосед вечерком пришёл ко мне. Сидим, пьём самогонку. Ну, я возьми и скажи: «Райком сеять заставляет, а земля не отошла от зимы, не прогрелась. Нельзя в такую холодную пашню семена бросать, замрут и не взойдут. Да разве в райкоме понимают? Им отчитаться перед обкомом надо». А сосед и говорит мне: «А что они там в обкоме понимают? Им бы Сталину поскорее доложить!». Ну, я возьми и скажи: «А Сталин знает когда сеять? Сидя в Кремле, он, что, разбирается в агрономических сроках нашего района?!». Тут сосед и отвечает мне: «Верно, Степан Иваныч, какого хрена Сталин понимает в весеннем севе? А райкомовские да обкомовские подумали бы своими глупыми башками, что сейчас зерно в землю бросать — только губить!». Сказал так и домой засобирался. Проводил я его и думаю: «Надо бы пойти в район, заявить на соседа в ГПУ. Не то он на меня вперёд заявит. Больно много языками натрепали». Выглянул я на улицу: ночь беспросветная, грязь, распутица, мокрый снег валит. А до района двадцать километров чапать… Уехать не на чем… Не пойдёт сосед в такую погоду стучать на меня… И лёг я спать. А под утро гэпэушники нагрянули. «Собирайся!» — приказали мне. Я только и успел сказать жене: «Не жди, выходи замуж». Она глаза вытаращила, ничего не понимает. Забрали меня. Десять лет без права переписки всучили. Не поленился сосед в ту ночь… А я за свою лень почти двадцать лет отсидел. В пятьдесят шестом году реабилитировали. После хрущёвского выступления на двадцатом партсъезде о культе личности Сталина освободили меня.
— Что ж потом? — спросил я, поражённый услышанным, а главное, спокойствием, с которым человек рассказывал о своей несчастной судьбе.
— А что потом? Приехал домой… В Колывань. У жены новый муж, взрослые дети. Я им — никто. Посидели втроём обнявшись, поплакали. И всё… Уехал я из Сибири на Дальний Восток…
— Вы обещали про капусту рассказать, — напомнил я бывшему политзэку.
— Да то в зоне… Как узнали там, что я агроном, велели овощами заниматься. Выращивал свеклу, морковь, картофель, капусту, помидоры, горох, лук… Во время войны в том лагере очень голодно было. Зэки как мухи дохли… А я на поле украдкой овощами питался. Так и выжил…
— Ну, а сосед?! Встречали его?
— Убила его жена в пьяном скандале, утюгом навернула по лбу…
…Эх–ма! Тру–ля–ля! У одних — судьбы, у других — судьбишки. Кто — люди, а кто — людишки. Кому дела вершить, а кому делишки творить… И гласит заповедь Божия: «Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна». Исход, гл.20, Второзаконие, гл 5.
16.45. Не волны, а огромные валы поднимают и швыряют вниз катамаран. Скрипят скобы. Ветер с дождём треплет флажок на мачте, готовый разорвать его в клочья, швыряет в лицо брызги белой пены, терзает брезент на лодках и упрямо теснит меня к тальникам правого берега.
Попадаю в какую–то узкую протоку, защищённую с обоих стороной плотными тальниковыми стенами. Здесь полное безветрие. Моросит дождь. Гладкая река течёт тихо и спокойно.
Устало бросаю вёсла. Закрываю глаза. Благодать!
Ещё несколько минут назад меня швыряло на волнах, ветер выл, и что–то жутковато–гаденькое заползало в душу, оторопь сжимала сердце, мокрым становилось тело, дыхание прерывистым, и только руки, словно чужие, сами по себе без остановки мотали вёслами. И то был страх. Безотчётный, подсознательный, подленький.
Блаженство скоро кончилось. Вышел снова на Обь. Ветер понемногу стихает.
17.50. Прошёл речной знак «1805‑й км.».
Иду вблизи обрывистого правого берега с нависшими над водой деревьями, подмытыми течением и готовыми рухнуть.
!8.00. Пристаю под глинистым обрывом у лесосклада. Беспорядочное нагромождение старых бревён и досок. Хватит дров для костра!.
Поднимаюсь на обрыв и ноги тотчас утопают по колена в мягком пушистом мху, покрытом неизвестными мне белыми цветочками, пахнущими хвоей.
На ровной местности редкие худосочные ёлки с подгоревшими снизу сухими стволами. И как изваяние, чёткий профиль грациозного лося, застывшее на малиновом фоне заката в сотне шагов от меня. Я крикнул, помахал шляпой. Лось двинулся в бескрайнюю ширь простиравшегося впереди болота, легко, будто по твёрдому месту, побежал и скоро исчез в дальнем ельнике.
Вот оно, очарование Севера!
Неподалеку от меня высокий, красный, четырёхугольный знак, установленный для капитанов–речников.
Дождь перестал. Облачно. Всё в белесой дымке. Воздух сырой. Костёр развожу с трудом. Мокрая береста долго не загоралась даже от спецназовских спичек. Ставлю палатку, готовлю ужин: суп из пакета «Рисовый, с курицей», кисель «Клубничный», лапша «Роллтон».
Пасмурный и скушный выдался денёк.
Болят натруженные плечи, ноют суставы в локтях. Одно утешение: на сухом месте, на мягком мху, напоминающем перину, под песни «Радио России» отдыхаю я в тепле и сытости. Посвечивая фонариком, делаю пометки в записной книжке о пройденном пути, сверяюсь с картой.
Сине–фиолетовая ночь нависла над глухоманью тундры. Ещё один день плавания позади. Ещё на десяток–другой километров стала короче река–жизнь.
Однако, пора «включать машину времени». Закрываю глаза и мысленно нажимаю на пульте кнопку с надписью «Июль, 1965».
И… поехали!
У входа в здание Дальневосточного государственного университета, в фойе, в длинных коридорах его, устланных паркетными полами, толпятся озабоченного вида юноши и девушки с «дипломатами», сумками, портфелями, с тетрадками, книжками, блокнотами. Осаждают двери приёмной комиссии. Списывают с доски объявлений расписания консультаций и экзаменов. Суетятся, торопятся, спешат.
Абитуриенты…
Многие не поступят, но живут надеждой на золотые медали и хорошие знания. На удачные билеты и шпаргалки. На знакомства пап, мам и протеже влиятельных родственников. На взятки и дорогие подарки.
Толкутся простаки из деревенских школ в серых пиджаках и клетчатых рубахах, в скромных самошитых юбках и дешёвых кофтах — будущие педагоги: географы, литераторы, историки, биологи.
Бухают по коридорам кованые кирзовые сапоги солдат–дембелей, пожелавших стать физиками, математиками, океанологами.
Мягко ступают в лакированных кожаных туфлях франтовато одетые сынки высокопоставленных чинуш и парсоветских бонз, подавших заявления на юридический факультет, на отделения журналистики и востоковедения. Держатся высомерно и обособленно: сказывается барское воспитание, уверены, что займут прокурорские и судейские кресла, кабинеты редакторов и послов.