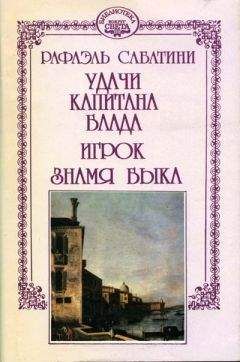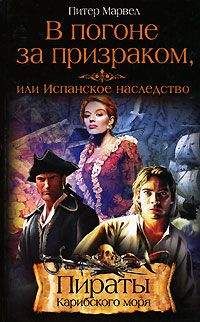Напуганный болезнью старшей дочери, причина которой крылась в тоске по любимому человеку, дон Мариано давно уже мысленно примирился с политической изменой этого человека и с радостью отдал бы за него дочь, лишь бы сохранить ее жизнь и видеть ее счастливой. Но дон Рафаэль уже почти два года ничем не напоминал о себе и не делал никаких попыток хотя бы на минуту увидеть ту, которую называл своей невестой, даже ни слова не написал ей. Поэтому и отец и дочь были уверены, что молодой человек оказался изменником не только в политике, но и в любви. Однако, желая поддержать в дочери хотя бы луч надежды, дон Мариано старался всячески утешить страдавшую девушку, говоря ей, что ее жених, вероятно, выжидает окончания войны или, по крайней мере, чего-либо такого, что заставило бы его вернуться к невесте.
— О да, — с внезапно разгоревшимися щеками и взором подхватила девушка, — да, он должен сделать это! Он дал мне клятву, что явится, когда я пошлю ему то, что уже послала… Впрочем, может быть, и из этого ничего не выйдет! — с грустью прибавила она.
— Выйдет, выйдет, моя дорогая, — продолжал успокаивать девушку отец. — Имей еще немножко терпения. Вероятно, он еще не получил твоей посылки, но как только получит, непременно явится и уверит тебя в своей неизменной любви, докажет тебе, что вас разлучили только неблагоприятно сложившиеся обстоятельства и какое-то тяжелое недоразумение.
— Недоразумение, из-за которого можно умереть! — произнесла со стоном девушка, вновь опускаясь на подушки и пряча в них лицо, судорожно подергивавшееся от приступа слез.
Между отцом и дочерью наступило тягостное молчание. Но через некоторое время дочь снова прервала его.
— Как ты полагаешь, папа, за сколько дней наш посыльный может дойти до места назначения? — спросила она, очевидно, под влиянием какой-то вдруг вспыхнувшей в ней надежды.
— Если он не найдет дона Рафаэля в Дель-Валле и должен будет оттуда пройти в Гуахапаму, куда, по слухам, отправился твой жених, то несколько дней тебе придется еще подождать свидания с ним, — ответил дон Мариано.
— Несколько дней? — тоскливо повторила девушка. — О, как это долго!.. Доживу ли еще я?.. А если и доживу, то все равно должна буду умереть, когда он скажет мне: «Вот я явился. Что же вам угодно от меня?» О, милый папа, я непременно умру тогда от стыда и горя!.. Потом я так страшно изменилась… Вся моя прежняя красота пропала. Взглянет он на меня и, увидев перед собою лишь слабую тень былого, быть может, из жалости и будет уверять… Нет, нет, мне не нужно его жалости, если не будет любви!
— А я уверен, что он еще больше полюбит тебя, когда увидит и поймет, как ты страдаешь по нему. Что же касается твоей красоты, то она опять вернется, когда ты будешь счастлива, — возражал дон Мариано, хотя и сам не верил в то, что говорил в утешение дочери, страдания которой надрывали его любящее сердце.
— Ну, тогда я умру от… радости, — промолвила девушка. — Во всяком случае, милый папа, тебе надо быть готовым остаться только с одною дочерью.
С этими пророческими словами дочь потянулась к отцу, обвила его шею обеими руками, прижалась к его груди и заплакала навзрыд. Не мог удержаться от слез и отец. В последние дни его томили предчувствия какого-то тяжелого горя, готового обрушиться на его семью, и он все время с душевным трепетом ожидал, что его мрачные предчувствия оправдаются.
В это время луна, скрывавшаяся до сих пор за темными облаками, наконец освободилась от них и засияла во всей своей красоте; местность, залитая ее серебристым светом, приняла менее зловещий вид. Зато на поверхности озера, возле утеса, казавшегося теперь точно покрытым блестящей серебристо-зеленой слюдяной массой, появилась целая стая аллигаторов. Шурша прибрежным тростником, чудовища стремились в лунную полосу, испуская странные, воющие звуки.
Сбившись в тесную кучу, слуги дона Мариано тщетно боролись с охватившей их жутью.
— Скорее бы уж проходила эта ночь! — сказал один из них. — Не к добру ты, Кастрильо, видел адские огни в гасиенде и белое привидение. Как бы не пришлось нам…
Донесшиеся вдруг как бы из глубины вод какие-то зловещие звуки, походившие на похоронное пение, прервали его и заставили остаться с открытым ртом. Казалось, там, в таинственных недрах озера, кто-то поет древний индейский гимн.
— Пресвятая Дева! — закричал Зефирино, — уж не поет ли это тот индеец, который ищет свое сердце?
Его товарищи, пораженные ужасом, только молча кивали головами в знак того, что и они думают то же самое.
Шелест и треск раздвигаемого вблизи тростника заставили всех замереть от страха. Но любопытство все-таки взяло верх над страхом. Они взглянули на озеро и увидели, как кто-то быстро пробирался среди густых камышей. Вскоре оттуда в озаренное луной свободное пространство озера выступил совершенно нагой человек, по медно-красной коже которого нетрудно было узнать в нем индейца. Очутившись перед открытым озером, этот человек бросился в воду и поплыл к страшному утесу; при этом он пел что-то на своем родном языке. Испуганные появлением пловца, все аллигаторы моментально попрятались в воду.
— Господи! Так и есть: это тот самый индеец, который ищет свое сердце! — шепотом произнес Зефирино, весь трясясь от страха. — Видите, грудь у него раскрыта… видны даже внутренности, кроме сердца… Смотрите, подплыл к утесу и как легко взбирается на него, словно по отлогому месту!.. Впрочем, это неудивительно: ведь он живет уж целых пятьсот лет, значит, совсем не похож на обыкновенных людей… Отцы мои! Это еще что такое…
Благополучно добравшись до вершины утеса, индеец исчез в тумане, окутывавшем эту вершину. Вскоре оттуда стали раздаваться следовавшие один за другим в правильные промежутки, громкие, отрывистые, звенящие удары. Эти удары походили на бой башенных часов, но вместе с тем в них было что-то жуткое и зловещее; кроме того, к ним время от времени присоединялся чей-то вой. От всего этого слушателей продрал мороз по коже.
Вне себя от ужаса, слуги бросились к хозяевам, которые также с испугом прислушивались к загадочным звукам.
— Что там такое? — спросил дон Мариано подбежавших людей. — Уж не ягуары ли вблизи? Но они, кажется, не так ревут… Потом, что это за звон?
— Нет, сеньор, это похуже ягуаров! — ответил Кастрильо, весь трясясь, как в злейшей лихорадке. — Нам следовало бы скорее уйти отсюда… Здесь нечисто… Слышите, что творится на этом проклятом утесе? Настоящий, не к ночи будет сказано, чертов шабаш!
И действительно, с озера, вперемежку с пением и глухим звоном, неслись еще более раздирающие душу вопли, стоны, рев и вой.
— Да, папа, здесь в самом деле становится очень жутко, — поддержала слугу Гертруда. — Пожалуйста, уйдем отсюда.