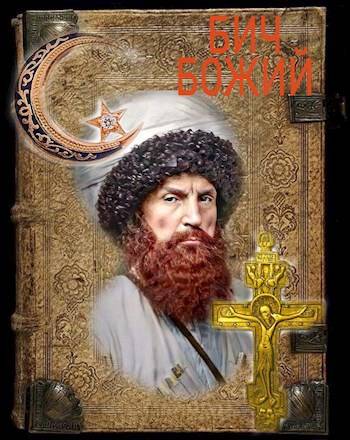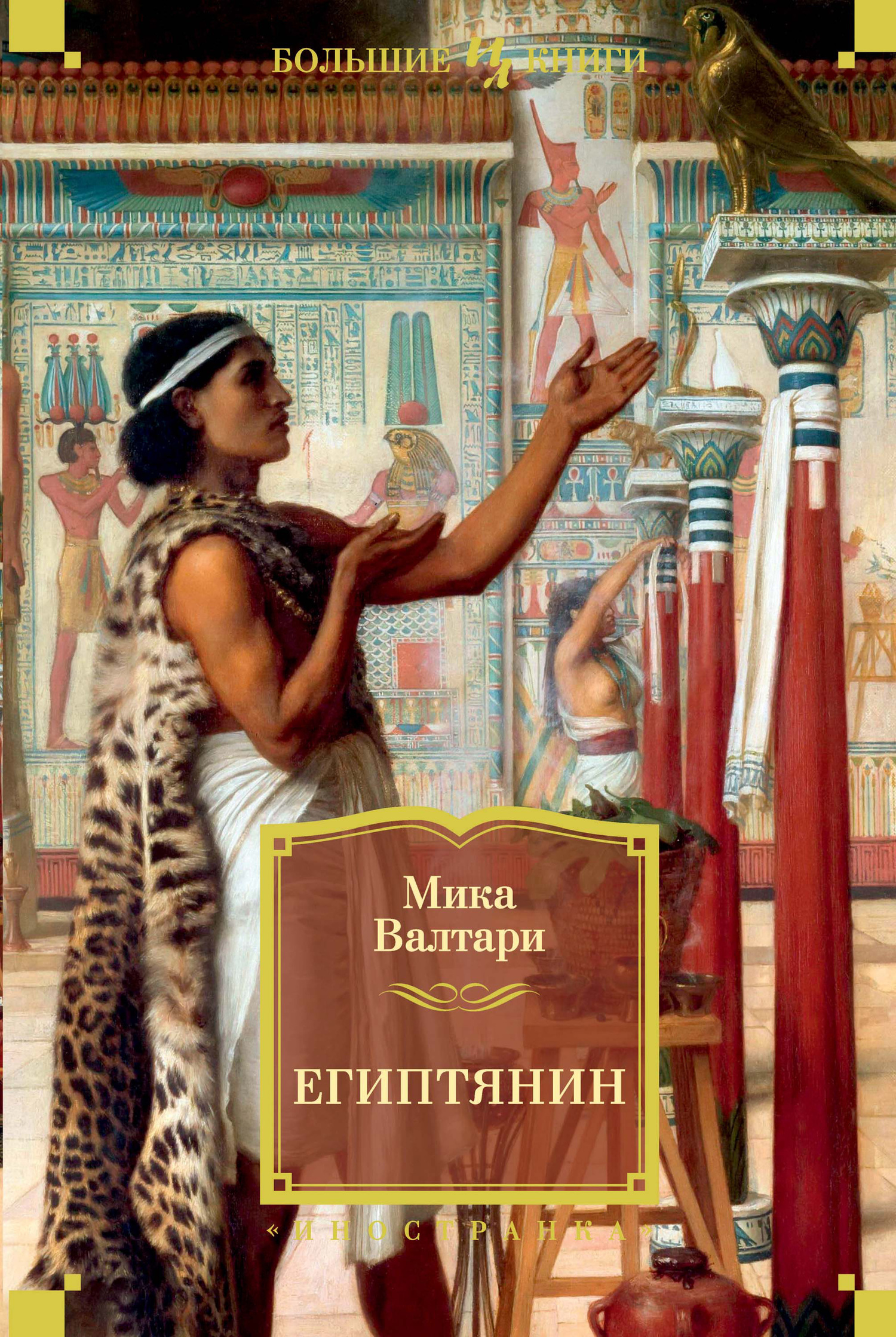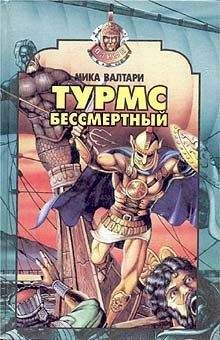Но о таких вещах легче рассуждать в бане, чем за железными воротами Замка Семи Башен.
Я потерял всякое самообладание и принялся вопить и топать ногами. И для моего же собственного блага евнуху пришлось в конце концов кликнуть янычаров и велеть, чтобы они пару раз крепко ударили меня палками по пяткам.
Бешенство мое быстро сменилось слезами. Я разрыдался от боли — а янычары тут же подхватили меня под руки и отвели обратно в камеру, по-прежнему выказывая величайшее почтение к моей особе.
Вскоре, как и предвидел многоопытный евнух, все мысли мои сосредоточились на распухших ноющих пятках. Прекратив думать о других вещах, я успокоился и стал жить как живется. Я лишь надеялся, что великий визирь Ибрагим, вернувшись наконец из Персии, хватится меня и несмотря на все интриги разузнает, куда я запропастился.
Итак, я прекратил изводить себя бессмысленными терзаниями и стремился лишь остаться в добром здравии да съедать все, что мне давали. Целыми днями слонялся я по двору и глядел на птиц, которые, громко хлопая крыльями, летали над стенами тюрьмы или безмолвно парили в лазурной вышине.
Во время этих прогулок я познакомился с другими узниками, среди которых было немало высокопоставленных мусульман, а также христиан, которых султан мог с выгодой использовать при обмене военнопленными. Заключенные коротали время, лежа на траве возле кухни в ожидании скудной трапезы. Самые же неугомонные сутками трудились в поте лица, высекая на гладкой поверхности глыб в фундаменте башни памятные рисунки и надписи, повествующие о злоключениях несчастных пленников.
Я дважды видел во дворе Рашида, правителя Туниса, и слышал, как человек этот последними словами поносил Хайр-эд-Дина и султана Сулеймана, которые подло обманули его, нарушив все обещания и клятвы.
9
Неделя проходила за неделей, с акаций, росших во дворе, осыпались листья, дни становились все холоднее, и мне смертельно надоело общество других узников.
Меня охватило гнетущее отчаяние, и мне страшно захотелось вернуться в свой чудесный дом. Мне казалось, что нет на свете ничего прекраснее, чем лежать на мягких подушках на террасе и любоваться Босфором в тс минуты, когда синие сумерки сгущаются над морем и на небе одна за другой вспыхивают звезды.
Я хирел и сох с тоски, и мне казалось, что все меня бросили.
В один прекрасный осенний день я смотрел с мраморной башни у Золотых Ворот на голубую гладь моря — и вдруг увидел на горизонте паруса, флаги, вымпелы и серебряные полумесяцы; эхом далекого мира донесся до меня грохот пушек с мыса, на котором раскинулся сераль.
Островерхие башни Ворот Мира сияли передо мной вдали как прекрасный сон, а за мощными стенами простирались невысокие холмы, усеянные белыми надгробьями и переливающиеся всеми оттенками желтого в чистом и прозрачном осеннем воздухе. Пыльная, белая, как мел, дорога вилась меж лугов и исчезала за холмами.
От красоты этих широких просторов у меня сжалось сердце. Я почувствовал страшное искушение броситься вниз головой с башни, от высоты которой захватывало дух, и быстро избавиться таким образом от тщеты, страданий и пустых надежд человеческой жизни.
Однако, к счастью, я этого не сделал, ибо в тот день судьба моя неожиданно переменилась.
В сумерках в замок явились трое безмолвных. Ленивой походкой прошли они через двор и скрылись в мраморной башне, стоявшей на берегу моря. В подземелье этой башни был колодец смерти. Возле него они и задушили по-тихому правителя Туниса Рашида бен-Хафса, бросив потом тело несчастного в воду. Из всего этого я сделал вывод, что Хайр-эд-Дин благополучно захватил Тунис и Рашид бен-Хафс старому пирату больше не был нужен.
Как и все другие узники, я страшно испугался, увидев безмолвных. Не смея дышать, следил я за их тихим появлением и таким же тихим исчезновением.
Одного из этой троицы я узнал сразу. Это был угрюмый негр с пепельно-серой кожей. Я часто видел его вместе с глухонемым рабом Абу эль-Касима.
Перед отплытием в Тунис Абу отдал мне этого своего невольника и немного обучил меня языку глухонемых.
Безмолвный негр, проходя по двору, бросил на меня равнодушный взгляд, но одновременно подал мне рукой незаметный знак, чуть-чуть успокоивший меня: оказывается, кто-то обо мне еще помнил.
Знак немого палача был после письма Джулии первой весточкой с воли, и позже меня охватило такое лихорадочное волнение, что ночью я не мог сомкнуть глаз.
Через три дня после появления безмолвных в Замке Семи Башен евнух вызвал меня к себе. С меня сняли кандалы, вернули мне халат и деньги, а затем евнух самолично проводил меня до ворот тюрьмы, чтобы выказать мне свое неизменное почтение.
И я вновь обрел свободу — так же внезапно и неожиданно, как очутился несколько месяцев назад в каменной клетке Замка Семи Башен.
За воротами меня — к величайшему моему изумлению — ждал в роскошном паланкине Абу эль-Касим. Меня трудно обвинить в излишней чувствительности, но, увидев Абу, я залился горькими слезами. Рыдая, как дитя, уткнулся я лицом ему в худое плечо; с наслаждением вдыхая терпкий запах пряностей, исходящий от халата Абу, я жался к нему, словно к родному отцу.
Абу эль-Касим втащил меня в паланкин и, задернув занавеси, дал мне глотнуть вина. Тут я немного пришел в себя и взволнованно спросил торговца, правда ли, что я свободен, в чем меня обвиняли и что творилось в мире, пока я сидел в Замке Семи Башен.
Торговец же на все это ответил:
— Все это совершеннейшие пустяки, и не стоит болтать ерунды. В свое время ты сам во всем разберешься. Главное, что теперь ты можешь вернуться домой и отдать мне, как обещал, русскую кормилицу и ее сына. Лишь из-за них приехал я снова в столицу султана. Увезу их в Тунис — и буду жить там спокойно до конца своих дней. Благодаря Хайр-эд-Дину Тунис освободился от власти Хафсидов, и жители его распевают теперь ликующие песни под заботливым присмотром янычар.
Я заверил торговца, что сдержу свое слово. Он же, убедившись, что и впрямь получит русскую кормилицу, облегченно вздохнул и начал рассказывать, почему же я угодил в тюрьму.
И я услышал вот что:
Выйдя весной в море, Хайр-эд-Дин двинулся сначала к крепости Корон, чтобы установить там новые пушки. Потом мусульманский флот впервые в истории открыто прошел по Мессинскому проливу[46], показывая таким образом свою силу. Затем Хайр-эд-Дин медленно двинулся дальше на север, основательно разоряя и грабя берега Неаполитанского королевства.
Дориа не решился выйти Хайр-эд-Дину навстречу, поскольку подозревал, что старый пират действительно собирается напасть на Геную.
На нашу беду, один раб-христианин показал сухопутным отрядам Хайр-эд-Дина дорогу к замку Фонди, где, как слышал этот невольник, должны были храниться несметные сокровища. Раба обещали отпустить на свободу, и отряды двинулись в путь.
— Но оказалось, что невольник сильно переоценил богатства замка Фонди, — продолжал Абу эль-Касим. — Захваченная там добыча была просто жалкой, хоть взбешенные янычары ворвались даже в кладбищенскую часовню и разграбили могилы владельцев замка, швырнув их останки со скалы в пропасть. Но поход Хайр-эд-Дина наделал страшного шума по всей Италии. Ведь нынешняя хозяйка замка Фонди, не очень старая еще вдова Джулия Гонзага, сумела в последнюю минуту выскочить из своей опочивальни, где уже дремала на ложе, и в одной ночной сорочке убежала от янычар, скрывшись в темноте. Хайр-эд-Дин никогда не слышал об этой особе, но после своего чудесного спасения женщина эта, кичливая, как павлин, стала рассказывать о своем бегстве самые невероятные истории, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Овдовев, она привыкла держать у себя при дворе поэтов и прочий сброд, за что эти рифмоплеты славили ее в своих стихах, называя дебелую даму, которой никак не меньше пятидесяти лет, красивейшей женщиной Италии. Ну, ты же знаешь поэтов, — презрительно добавил Абу, — и понимаешь, что все их восторги и выеденного яйца не стоят. Но в глупом тшеславии своем эта наглая баба распустила совершенно дикие слухи. Хайр-эд-Дин якобы напал на ее замок только потому, что она — самая красивая женщина в мире, и старый разбойник будто бы хотел сделать подарок господину и повелителю своему Сулейману, послав ее в султанский гарем. Вдовица столько раз повторяла эти бредни, что в конце концов и сама в них поверила.