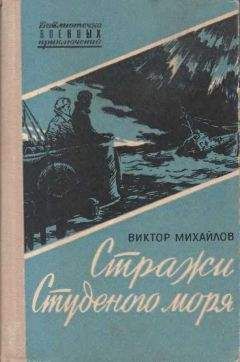Все верно — свет в оконце.
«А может, солнцем заходным стекло полоснуло? Нет — из трубы валит дым, вьется тугими кольцами, стало быть, каминка топится. Опять же замка на двери нет, — думала Глафира. — Может быть, так: шел человек, пристал, видит — домовище и ключ у порога, час поздний, зашел гостем, лампу засветил, у каминки дрова лежат наколотые, затопил… Глупая, кого хочу обмануть? Откуда на нашем острове, на Гудиме, случайному гостю быть?» От мысли этой дух захватило. Дорогу перешла, дверь рывком, по-хозяйски, открыла, замерла на пороге.
На лавке сидел Саша Кондаков, чисто выбритый, красивый. Одет он был в рубаху, что она ему сама вышивала на «Звездочке», когда шли с верфи. Только узка ему стала та рубаха или сопрела в сундуке — под мышками лопнула. Сидел Саша на лавке, смотрел на Глафиру и смеялся. Он и раньше так, бывало, чуть чего — смеется. В руке держал за чубук трубку голландскую с крышкой. Раньше не курил.
— Пришел… — от порога сказала Глафира, а у самой губы дрожат. — Что ж так долго?
— Поветерья, Гланя, не было, да и занесло меня далеко.
Он протянул к ней руки. Глафира словно этого и дожидалась, бросилась к нему в объятия, но тут же отстранилась и, пытливо глядя в глаза, спросила:
— Ты на людях-то показаться можешь? Или тайно пришел?
— В законе я, Гланя, не бойся. Смотри — паспорт, в Воркуте выданный, — он указал на стол, где лежали бумаги, — справка об освобождении из лагеря. «Направляется по месту постоянного жительства в порт Георгий…» — прочел он. — Смотри, Гланя, по белому черным писано. Я к себе пришел. Домовище это моими руками кладено.
— Олешек! Сашенька! Заждалась тебя, баский ты мой! — Только теперь она заметила, сколько черточек на его лице начертало время. — Где же ты пропадал столько годов? Жил как? Почему не писал?
— Скажу, Гланя, все скажу. Нету от тебя никаких заветов, но прежде… Как на духу — любишь?
— Люблю…
— Как прежде любила?
— Как прежде…
— Помнишь, когда на «Звездочке» из Архангельска шли, ты мне клялась…
— Помню.
— Помнишь, когда меня в армию провожала, клялась: «…если молодость всю воевать станешь — ждать буду! Если скажут убит — ждать буду! Пока видят глаза! Пока бьется сердце! Пока носит меня земля!..»
— Пока носит меня земля… — как эхо повторила она.
— Любишь?
— Люблю.
— Куда бы не повел — со мной пойдешь?..
— Пойду, Олешек…
— Теперь скажу тебе, Гланя, правду. В плен я попал тяжело раненный. Потом война кончилась — в лагере под Мюнхеном два года был. Все к тебе, Гланя, рвался, да не вырвался. Там у нас говорили, кто в плену был, тому лучше домой не возвращаться — тюрьма и каторга, а чужая сторона хоть и злая мачеха, да не тюремщик. За океан я подался. Как жил, сама понимаешь, на чужбине, что в океане — ноги жидкие. Вижу я, народу там неприкаянного — дождем не смочить столько. Будешь удачи покорно ждать — не дождешься, надо своими силами пробиваться. Ты, Гланя, знаешь, голова у меня на выдумку горазна, но, сколько я ни бился, жизнь, что луна — то полная, то на ущербе. Гонял я лес по реке Горн в штате Монтана. Служил солдатом в стране Гондурасе. Помощником механика плавал на вонючей каботажке, рейс Чарльстон — Савенна — Джексонвиль. Даже делал бизнес на рыбе, но капитала не нажил. Если все, что я за эти годы пережил, вспомнить да записать, книга-роман получится, читать будешь — не оторвешься. Время да разлука любовь сушат, а я — что ни год, все больше тебя любил, Гланя, кручинился. Да на одной кручине моря не переедешь. Подвернулся мне один человек, вроде наш, русский. Ума не приложу, откуда про жизнь мою ему было известно, но все знал доподлинно. Хочешь, говорит, жить, как люди живут, — вот тебе пять тысяч шведских крон на норвежский банк в Нурвоген, а пять тысяч после, как с делом справишься. Деньги большие. Такие деньги за здорово живешь не получишь. Но, сама знаешь, по какой реке плыть, ту и воду пить. Согласился я. В то время жил я в африканской стране Конго. Работал смотрителем на руднике О’Катанга. Собачья жизнь и собачья работа. Как только я документ подписал, посадили меня в самолет и отправили в Гамбург. Ну тут… Ты, Гланя, дверь заперла? — спросил Кондаков.
— Не помню, Саша, сейчас гляну, — сказала она, поднимаясь с лавки.
— Нет, ты сиди, я сам посмотрю.
Он у порога прислушался, открыл дверь, вышел из дома, осмотрел все вокруг, вернулся и накинул крючок.
— Ни одному человеку я того не говорил, что тебе скажу, — начал Кондаков и прикрутил фитиль так, что лампа чуть не погасла. — Когда темно, кажется, никто тебя не подслушивает, а при свете и у стен есть уши.
Он подошел к лавке, нащупал горячие руки Глафиры, обнял ее.
— Переправили меня, Гланя, — продолжал он, — самолетом в Гамбург, большой портовый город. Ночью на машину посадили и долго куда-то везли. Стал я жить в отдельной комнате. Кормили меня, как борова на откорм, до седьмого поту по наукам гоняли. Весу я не прибавил, скорее, отощал.
— Чему же тебя, Саня, учили? — удивилась Глафира.
— Учили всякой научной премудрости.
— Не пойму я, Саня. Это там тебя учили день обращать в ночь? Лампу ты прикрутил, а человеку свет как воздух нужен. Все живое к солнцу тянется.
— Дерево тянется к солнцу, а человек к счастью!
— Где же, Саня, твое темное счастье?
— Ты, Гланя, мое счастье.
— С тобой я, Саня, с тобой…
— Насмотрелся я вдосталь на нищее счастье да на голодную любовь. Мы с тобой в Нурвогене станем жить! Мотобот купим «Звездочку», в память о той, архангельской. На свою тоню ходить будем…
— Разве мы с тобой нищие? Я если стану рыбу шкерить, то за мной не угнаться. Ты, Саня, на всю артель лучший механик…
— Горб хочешь гнуть?
— Хлеб потом не посолонишь — пресно есть будет.
— Я тебя зову праздновать, а ты из будней ног не вытащишь! К счастью зову тебя…
— Легко зовешь, словно в кино.
— Почему легко? Еще только полдела сделано. Счастье надо еще заработать.
— Счастье-то, Саня, чужое…
— Почему чужое?
— Не наше, не русское. Ты сам чужбину мачехой назвал, а меня от матери увезти хочешь.
— Одно дело на чужбине чужой кисе кланяться, другое — своей кисой похваляться. Деньги, они везде деньги — и рубль, и шведская крона.
— За что же, Саня, тебе шведские кроны?
— Я тебе все расскажу. Без твоей подмоги мне одному не управиться. Да и тебе, чтобы со мной в Нурвоген уйти, надо себя показать, заслужить доверие. Я за тебя, Гланя, поручился. Спрашивали там меня: «Прошло много лет», сомневаются они, а я им: «Там люди не меняются!» — как видишь, не ошибся. Погоди, Гланя, я в окошко посмотрю, не подслушивает ли кто, — он подошел к окну, отвернул занавеску и приник лбом к стеклу.