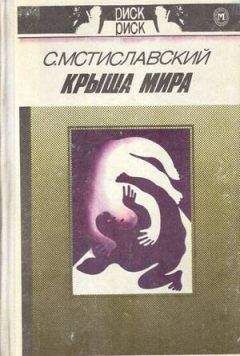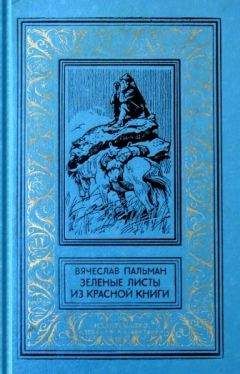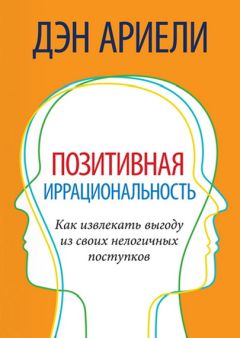В вихре рыданий и стонов унес кровавый поток».
А вторая — по ту сторону двери: по-русски, корявыми, но твердыми литерами:
«Прибыл разъезд 25 числа августа за старшава абещик Яков Чернов и джигить Николай Каплунь. И переводчик Ашурбай. 1896 года».
А та, персидская надпись, старая. Должно быть, еще от прежних шугнанских ханов, от времени их разгрома.
Надписи расплываются, объездчик Чернов, верхом — вижу его: русый, веселый, серьга в ухе — наезжает в развалку на персидскую вязь. Путаются у конских крепких ног цепкие старые значки. Жорж сказал бы: два мира, две культуры. Еще что…
Абду-Кадыр, неслышно опустившись на пол, у кровати, строит дутор.
— Сегодня я спою тебе новую песню, таксыр, какую ты еще не слышал. О Пери и Искандере…
* * *
Гассан располнел на отдыхе. Но ходит невеселый. Когда спрашиваю, отводит глаза:
— Так, нехорошо.
* * *
Часто заходит Вассарга. Мы подолгу беседуем с ним: чтобы убить время, я опять стал записывать язгулонские слова — пробую грамматику составить. Но работаю так, по инерции — интереса прежнего нет. Отошли куда-то далеко, без возврата, и антропология и лингвистика: к ним не вернусь. Случилось что-то: только не могу мыслей собрать, я ведь еще болен. Вот выздоровлю…
Знаю только — Рахметулла, Пери, крэн-и-лонги: сегодняшнее мое — от них. Разное, но к одному. Путаются мысли, рано еще думать: болен.
* * *
Как-то под вечер пришел с Вассаргой старый охотник, из тех, из шести, пришедших со мной. Положил низкий-низкий поклон.
— Чего ты, старик?
— Пришли по Тропе люди. Через Язгулон. Видели наших. Иштпар, дочь, помнишь?
— Ну?
— Выздоровела. Закрылась язва, что ты лечил, таксыр.
— Не от моего лечения закрылась, скажи ты ему, Вассарга. Я ведь не лекарь.
Вассарга улыбается: лукавы ласковые глаза.
— Знаю! Ты не лекарь — а вылечиваешь; не возишь золота — а богат, не святой — а держишь судьбу. Ты — Нарушитель!
Может быть, и вправду к э т о м у приводит Тропа?
Нарушитель! — И больше не надо?
* * *
Силы возвращаются. Я уже ступаю босиком по ковру. Не больно. Бек все настойчивее надоедает своими расспросами — лыком шитый политик. Точно я не чувствую ветра с того, с афганского берега: от английской резиденции в Кабуле.
* * *
Наконец день отъезда назначен. Лошади, вьюки, чиновник бека, джигиты: едем по-прежнему. Опять не надо думать ни о ночлегах, ни о запасах. До самого Памирского поста. Там — русские войска, офицеры, начальство: они уже позаботятся переправить меня на Алай.
Бек на прощанье атакует в последний раз:
— Сколько мы ни говорили — ах! по-дружески, открыта душа! — так ты и не сказал мне, зачем нарушил Заповедь Тропы? И теперь не скажешь? Ой, неласков ты ко мне, таксыр. Что будет — а? — если светлейший эмир пришлет ко мне с запросом: почему ты Тропу прошел? Ведь он, наверное, знает уже о нарушенной Заповеди.
— Не пришлет эмир гонца, не тревожься. А если бы прислал — передай, как я тебе говорил: нарушил потому, что она — Заповедь!
— Ты смеешься, таксыр. Как сказать такое слово эмиру? Разве сам он не Заповедь?
А ведь и вправду! Велик же счет Хранителям — крэн-и-лонгам…
* * *
Зато с язгулонцами простился задушевно, как с родными.
— Не вернешься ты к нам больше, таксыр. А как бы мы теперь тебя принимали!..
— Может быть, и вернусь…
Вассарга качает головой:
— Нет, не вернешься. Не пойдешь ты два раза по одной дороге!
Посылаю поклон и еще благодарность Джалэддину и Дарвазскому беку: хороший старик.
— А крэн-и-лонгам? — посмеиваются.
— Что им посылать?.. У меня с ними нет счета.
— Народ сведет! — кивают язгулонцы. — Уже сейчас, слышно, двинулись поселенцы — и от Кала-и-Хумба и от самого Гиссара: и к тамошним дошла весть. Ведь подумать надо! — сколько было Заповедью угодий прикрыто. И под пахоту и под пастьбу. Помнишь гору ту, на которой нас туры спасали? Вся травяная… Сколько можно там богары засеять! А уголь, а железо в горах… Все под Заповедью было. На охоту выйти в окрестные горы — и то от крэн-и-лонгов шло разрешение под запретным условием: если выйдешь на Тропу — сворачивай раньше заката в сторону, сворачивай, хотя бы к скале прижал тура. От Язгулона и до Турьего Лба — их была вотчина: не счесть ташей. Теперь всему конец: нет у них больше власти над землею — пробьет народ по Пянджу твердую торговую тропу, распашет горы и плугом и киркою. От дедов — тоска по той земле. Да вот: ждали Нарушителя…
Должно быть, это хорошо; а почему-то от слов этих неприятно как-то стало… лучше бы не говорили. Разве для них это в с е? А для меня…
Какое все это для меня новое, новое…
* * *
От Кала-и-Вамара к Памиру мы двинулись спешным порядком: на переменных лошадях, почти без привалов. Измерять черепа, записывать существительные и прилагательные я перестал. О другом мысли. И домой тянет какою-то гневною, напряженною тягой.
Тропа — по-прежнему берегом Пянджа — показалась безмерно легкой после дарвазских переходов. Подъем идет все время, но подъем ровный. Много кишлаков. Воды и зелени вдоволь. В поселениях шла уже молотьба. На всем пути с откосов гор сползали запряженные быками или яками «чигина» — дровни, заваленные снопами пшеницы и люцерны: на колесах по горам езды нет. На огромных токах, увязая в соломе медленно кружили волы, парами, с мальчонком у выгнутого ярма волоча по разбитым вязкам тяжелый и длинный деревянный «чапар» — бревно, обмолачивающее колос. Работают одни мужчины: ни на токах ни на полях — на жнивье даже — женщин не видно.
Попадаются поляны, заросшие спелым, уже осыпающимся овсом. Об уборке его никто, видимо, не думает. Поляны потоптаны, по ним бродят свободно чьи-то мохнатые козы.
— Почему не жнут?
Проводник удивленно подымает брови.
— Жать гыз? Это же не хлеб, это — гыз, дикая трава. Кто ее есть будет?
— У нас, на Западе, ее нарочно сеют — лошадей кормить.
Смеется.
— И лошади едят?.. Такое?
— Еще как!
Он задумывается на секунду. Потом спрашивает:
— А правда, что у вас есть железные лошади, на которых человек ездит быстро-быстро, и другие железные, которые тащат много повозок зараз..
— Правда.
— Ну вот, — кивает горец. — Оттого-то у вас лошади и едят гыз. Боятся: не будут есть, что дают, — вы их вовсе кормить не станете, будете ездить на железных лошадях. А наши — нет! Они знают — им замены нет: они какой-то там гыз есть не станут: им дай клевер, им дай ячмень…
* * *
Странный стал Гассан. Я все чаще ловлю на себе его взгляд, помрачневший, исподлобья: оттого ли, что я другой стал?.. Или он тоже?