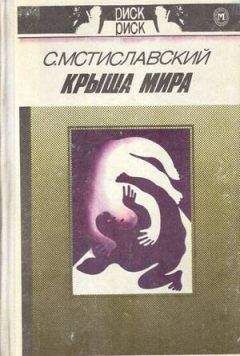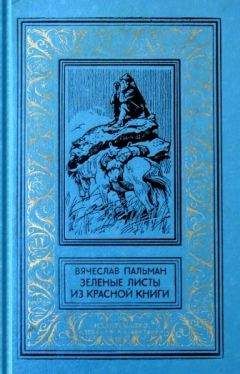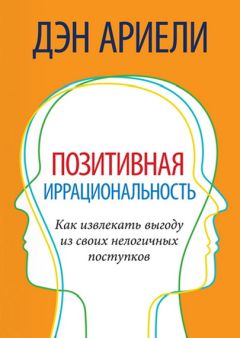У порога сакли, в длинном белом бешмете, туго перетянутом белым же шерстяным поясом, стоял тот самый старик, с которым мы провели ночь над Пянджем. Он приветливо улыбался.
— Я рад видеть тебя опять, Нарушитель.
— И я рад, отец.
Коня свели вниз. Один из учеников принес широкую расписную деревянную чащу с медом, лепешки и просо на чеканном серебряном блюде. Поставил на гладкий камень, около которого развернут был темный пушистый афганский ковер. Склонившись, все отошли на скат.
Старик опустился на ковер, скрестив ноги, и знаком пригласил меня сесть. Переломил лепешку, обмакнул в мед, передал, откинув со смуглой руки широкий рукав бешмета.
— Я слышал: труден был тебе переход?
— Да, отец, радостен!
Чарма приподнял брови чуть заметным движением.
— Радостен след крови?
— Кровь моя — и на мне. А люди… ты слышал, что говорят они про снявший Заповедь кровавый след?
Старик пристально посмотрел на меня.
— Ты думал о людях, когда ступал на Заповедную Тропу?
— Нет, зачем? Разве думать о себе не то же, что думать о людях?
— Люди затопчут твой след, — не отвечая, тихо сказал Хира-Чарма. — Они затрут кровь — грязью базарной подошвы.
— Что нужды! Я проложу новый.
— Где?
— Не знаю еще. Буду искать.
Он улыбнулся бескровной, скорбной усмешкой.
— Ты мог бы найти. Но ты опоясался сталью. Сталь — оскорбление правде. Пока ты будешь опоясан сталью — ты не найдешь.
— Найти мало, отец. Надо в з я т ь. Но взять — может только опоясанный.
Хира-Чарма утомленно прикрыл сухими, прозрачными веками — жесткими ставшие глаза. Голос его зазвучал медлительно и строго.
— Давно, на самой моей заре, случилось мне идти из Патны в Аллагабад, вверх по Гангу. Страшная была в те дни чума в Бенаресе. Когда я проходил город, стонами и воплями полнились улицы. Без числа тянулись смертные носилки. Вслед им вышел я к реке. Весь берег был покрыт кострами — в рост этим скалам: на них углились мертвецы. Как саван стлался над светлой водою мертвый дым мертвецов. И бились о землю, ожидая своей смертной очереди, осиротевшие.
Тяжело и грозно было у меня тогда на сердце, Нарушитель. Душа кипела от людского горя, от неправды чумы: зачем сиротит она детей, и мать отрывает от дочери, и сводит смертною судорогой руки надежде семьи, старшему сыну? Как скрутить гнойные руки смерти? Как найти правду жизни? Потому что правда жизни — в счастье. Не так ли судишь и ты, Нарушитель?
И вот, в этих мыслях, проходя сквозь стенанья толпы, увидел я у самого берега, на холме, старца в белой одежде: синий круг между бровями. Он смотрел на костры и… улыбался.
Как безумный, разбил я у ног его страннический свой посох и вскричал:
— Как можешь ты улыбаться людскому горю, отец!
Он посмотрел на меня и ответил… на всю жизнь живо для меня его слово!..
— Одного знака моего — таково знание! — было бы довольно, чтобы горе это сменилось радостью, чтобы поднялись живыми с костров обгорелые трупы и навеки ушла из мира чума.
И я спросил снова:
— И ты не напряг мышцы для этого знака?
Тогда он положил мне на голову руку. И тотчас исчезли из глаз моих трупы и костры: тихо и радостно катил свои светлые воды Ганг в цветущих пустых берегах. И весело смотрелись в него пальмовые рощи, и пели птицы, и смеялось солнце… Я был один на приречном берегу.
И понял я, благодатью откровения, правду Заповедного пути. Правду жизни. Где искать и что найти. И когда старец снял руку, — улыбаясь, прошел я за ним следом сквозь дым погребальных костров… ты хорошо слушал меня, юноша?
— Тебе нужен ответ, старик?
— Нет, — улыбнулся Чарма. — Дай мне чашу, Ходжой. Путник хочет увидеть свою судьбу.
Чернобородый мрачный послушник торопливо вынес из сакли высокий, граненого хрусталя, кубок. Мы встали с ковра. Чарма зачерпнул чашей воды из ключа, бившего у порога сакли.
Мед и хлеб сняли с камня. Чарма провел рукою по черной поверхности его, начертанием треугольников, и поставил кубок.
— Наклонись и смотри.
Я склонил лицо к самой поверхности вровень с краями стоявшей прозрачной воды. Она ярко играла радужными отражениями граней: хотелось сощурить глаза. Но в меру того как я смотрел — темней и мутнее становилась влага. Обвод кубка стал шириться, вырываясь из поля зрения. Я откинул голову, медленно выпрямляясь, но мутный круг подымался со мною вместе, не отпуская моих глаз, широким, радужною игрою окаймленным щитом заслоняя ущелья и горы.
Муть клубилась и искрилась. Внезапно, сквозь клубы эти, прорезались четко и ясно странные черты огромного, весь круг заполнявшего лица. Тусклые, бескровные глаза, отвислые жадные губы. Лицо надвигалось, крепло. Рот раскрылся, щеря зубы: в оскале их блеснуло что-то синим матовым блеском… Кривое… Нож крэн-и-лонгов!
И тотчас — снизу, от края круга, надвое рассекая лицо, взвилась прямая и быстрая, как стрела, багряная черта. Дрогнула, осела — и вновь взмыла вверх кровавым, крутящимся смерчем. Лицо исчезло. Весь круг горел теперь красными взбрызгами очертаний — людей, знаков, письмен. Они сливались, змеясь, странною тягою: из тел и письмен возникало чудесное простотою форм, высокое, вверх устремленное здание: кровавый на подножье пурпур просветлялся к вершине — чистой, радостной белизной. Надпись иссечена на фронтоне: короткая, как имя. З н а ю е г о: но чтобы сказать — надо п р о ч е с т ь. Прочесть во что бы то ни стало…
Я напряг взгляд, разбирая знаки. Но сквозь стены, руша стройность колоннад, насмешкой выдвинулось, ввстречу напряженным, ждущим глазам, то отвратительное лицо, с пляшущим в зубах кривым синеющим ножом.
И вновь, перекрывая его, взвился кровавый смерч, разметывая по кругу очертания людей и письмен. И снова, сливаясь из тел, стало возникать здание.
Три раза повторялась эта смена: смерч — здание — лицо — опять смерч. Стало нестерпимо. Я бросил руку в круг к знакомой рукоятке. Мутная волна хлестнула по глазам: невольно я закрыл веки. Когда я снова поднял их — круга уже не было: передо мною на камне стоял кубок с прозрачной студеной водой.
— Смотри еще, — глухо, почти гневно сказал Хира-Чарма.
Я снова остановил глаза. На этот раз тотчас замутнела вода и разбежалась широким кругом. Ширясь, он яснел, пока не засиневел весь. Я увидел гладкую, прямую, желтым песком усыпанную дорожку среди клумб и подстриженных кустов. Вдали: дом — пышной, богатой стройки. На террасе, у куста розовых камелий, нарядная красивая женщина; по ступеням сбегают кудрявые смеющиеся дети…
Довольно с меня! Я тряхнул головой: видение исчезло.
Хира-Чарма медленно повернул меня к себе: перед глазами все еще мерцали радужные круги.