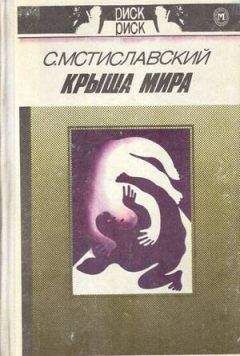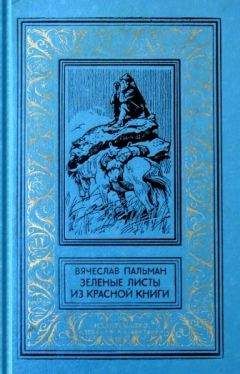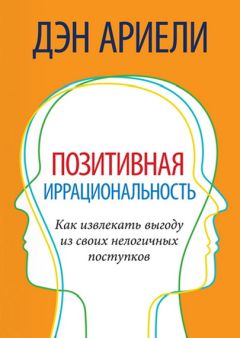— Нет! С почетом проводите гостя. Чтите фирман эмира.
Гассан, как во сне, невидящими глазами встретил меня у стремени. Я сказал, разбирая поводья:
— Помни: мой путь — прямо на Хорог, прибрежной дорогой. Три дня я буду идти полупереходами. Когда с твоей головы сойдет сегодняшняя одурь — ты догонишь меня. Но помни — три дня. Больше я ждать не буду.
* * *
Один возвращался я по зачерневшему сумерками ущелью. Проводник лянгарец, далеко впереди, нещадно гнал коня: надо же было оповестить о случившемся на скале Хира-Чармы раньше, чем я вернусь в кишлак. Чиновник и его джигиты отстали. Я ехал один. И в первый раз за эти дни легко и твердо думалось о будущем пути — о подлинной Заповедной Тропе, к которой кала-и-хумбский переход — радостное, детское преддверье.
Теплый ветер ласково овевал лицо. Луною серебрились уже снеговые вершины. Ширь, приволье. Один…
«Радугой перьев павлиньих сад зацветен затененный…
Он назвал меня опоясанным сталью, Хира-Чарма. Кажется, я глупо, по-ребячьи говорил с ним на скале. Но непереносно кликушество. И заразно.
Все равно. Хорошо на душе. И навсегда, должно быть. Наверное, навсегда!
Я подымаю в галоп лошадь и бросаю поводья…
* * *
На дворе старшины встретили меня глубоким молчанием. Не сразу даже отвели в дом. Но чиновник бека долго и вразумительно толковал старшине, часто упоминая Хира-Чарму и фирман. В конце концов я оказался все же перед пышным дастарханом.
Но разделить со мной трапезу не пожелал ни хозяин, ни чиновник. Сослались на обычай, но глаза сказали иное.
Было противно это «гостеприимство по фирману». На минуту — я решил было даже сейчас же приказать седлать и выехать дальше. Но лянгарцы, конечно же, сочли бы такое решение бегством от проклятия старца. А мне нужно — совсем другое… Я вызвал поэтому чиновника и сказал ему, намеренно небрежно:
— Лянгар красив: мне нравится это место. Мы останемся завтра здесь на целый день. На склонах я видел туров. После болезни мне ни разу еще не довелось стрелять. Прикажи старшине вызвать мне к утру проводников: я выеду в горы на охоту.
Чиновник посмотрел на меня с нескрытым удивлением.
— Очень хорошо, таксыр. К утру будут готовы и лошади и люди. Больше не будет приказаний?
Г л а в а XIX. КРЫША МИРА
Только к ночи вернулся я с турьей охоты. Проводники явно плутовали. Не раз за день я бросал их и собственным разумением искал дороги к пастбищам туров, от которых они отводили меня. Я д о л ж е н был вернуться с добычей. Иначе к чудесам Хира-Чармы прибавилось бы еще одно: над Нарушителем насмеялись бы туры.
Хорошо, что их так много в окрестных горах; несмотря на мою неопытность и козни спутников, мне удалось к концу дня свалить двух крупных, не дав промаха. В Лянгаре это произвело должное впечатление: видимо, там вообще не думали, что я вернусь живым с охоты в ущелье Хира-Чармы.
За вечерней трапезой рассказал чиновник: не смог сдержать болтливый язык:
— Гассан — в сакле у самого Хира-Чармы… Безмерно обласкан святым. И то сказать: доподлинно велико чудо обращения. Столь известный разбойник — барантач, губитель душ невинных!.. Сколько крови пролил на убийствах и грабежах!
— Это Гассанка-то? Да он курицы, кажется, не зарезал, не то что человека!
— Ты не знаешь, таксыр! — умильно, примирительно помавает головою шугнанец. — Откуда тебе знать — ты приезжий, ты знатный — какое тебе о джигитской душе попечение! Лошадь хорошо чистит — больше тебе и не надо. А Хира-Чарма провидел — и Ходжа-Сафид признал великие прошлые свои грехи, и убийства, и кощунства, которые он сделал в ослеплении суетой земли, проповеди Нарушения. Великая будет слава Лянгару и его старцу, когда разнесется весть о чудесном обращении разбойника, о попрании им ведшего его князя тьмы. Арслан говорит: в человечьем обличье был тот князь: велики о нем рассказы Ходжи-Сафида. Проклят он Хира-Чармою и всем собором учеников.
…А за покушение на тебя, таксыр, на высокого гостя эмира, — продолжает, хитро выдержав паузу, чиновник, — наложил старец на всех учеников пост семидневный, со стоянием на скалах от восхода и до заката солнца: жестокий пост. Он же сам эти дни будет просвещать обращенного благодатью откровения.
Надежд на возвращение Гассана, таким образом, было мало: попал в священную мельницу — замелет его. Все же я сдержал слово: за два следующих дня мы продвинулись меньше чем на переход. На второй день я отправил нарочного в Лянгар за забытой тетрадкой: уезжая, я засунул ее в своей комнате под кошму. Нарочный вернулся к утру следующего дня. Я вскользь спросил о Гассане. Он отвечал торжествующе:
— Молится!
В этот день, к великой радости чиновника, мы тронулись полным ходом, сменяя лошадей. Путь шел без спусков, в гору.
Четыре дня подымались мы — то отвесно почти вверх, держась за конские хвосты, обрывая подошвы о закровеневшие кровью конских ног острые выступы, то длинным извивом чуть заметной осыпи, пробираясь через залегшие по расселинам застылые снежные поля. К вечеру четвертого дня замаячило синей прорезью над головами седло перевала. Туже напрягли дрожащие от тяги мышцы усталые кони; веселее пошли, хватаясь за камни поворотов, пешие проводники. Ступили на снег. Прилегли на конские гривы: по снежному полю вверх, крутым взметом, к яркому, к солнечному просвету последнего перевала. За ним, говорят туземцы, подъем постепенный, почти неприметный с седла.
Прыжком одолевает лошадь последнюю кручу: за белым пологом осиленной нами вершины — морем безгранным застывших на взлете каменных гребнистых волн — вскрывается лабиринт Памирских предгорий. Ряд за рядом, как морская рябь, высятся хребты, — зазубринами голых вершин, синими иглами ледяных пиков, черными провалами ущелий, серебреющими пеленами снеговых полей размечая свои смены. А за ними, закрывая горизонт, сверху, от самого неба, от тяжелых, седыми клубами свернувшихся туч, словно складки тяжелотканой парчи спадают фиолетовые отвесы неприступной, прямой, чуть расцвеченной трещинами стены: Памир, Крыша Мира.
Как завороженный, стоял я на перевале, врыв коня копытами в обледенелый снег. Стаи голошеих огромных грифов, взбуженные нашим подъемом, снялись с придорожных утесов и стали снижаться над тропою, прядавшей с уступа на уступ, к югу, к реке, в обход залегшего под нами лабиринта.
— Пора, таксыр! Нам задерживаться нельзя. Путь долог. Ветер встает от ледников: слышишь ли свист по расселинам? Спуск крут: до ночи надо быть на ночлеге.
Храпя и оступаясь, метя хвостами тропу, сползают по уступам кони вслед за грифами. Все темнее фиолетовая парча Великой Памирской Стены. Теснее смыкаются облака, закрывшие ее вершину. Холодом дышит с низин. Ложится синева от огромных скал на белые глыбы снежников. Вперегонку, постукивая посохами, бегут проводники. Ходу, ходу! Ночь ползет из ущелий, крадется тенью по следу уходящего, последними багряными отсветами ласкающего ледники солнца.