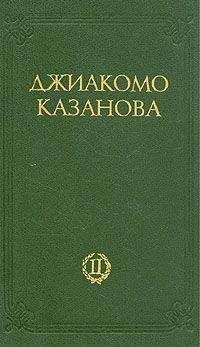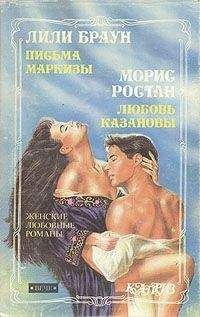— Вы надеетесь на успех?
— Можете считать, что я уже выиграл. Ведь не могут же засудить меня в пользу мужика?
— Буду счастлив присутствовать при вашем торжестве.
На самом же деле сия задержка ощутительно затрудняла меня, но говоришь ведь не так, как думаешь, а то, к чему вынуждают обстоятельства. Граф совершенно неожиданно ушёл, даже не спросив, где я собираюсь обедать, и не извинившись, что не сможет принять меня в своём доме. Я старался внушить себе, что он прав, ибо приглашал меня лишь в загородное поместье и, возможно, не сказал ничего только из деликатности. Как вскоре выяснилось, все подобные рассуждения показывали только мою глупость. Я обедал и ужинал у Торреса и рассказал ему о предстоящем завтра процессе.
— Непременно отправлюсь в суд посмотреть физиономию Торриано.
— Но ведь он должен выиграть.
— Пусть себе надеется. Мне-то его дело известно — он подделывал счётные книги, чтобы его фермер оказался должником. Бедняга проиграл в первой инстанции и подал апелляцию. Он даже заплатил судебные издержки, несмотря на свою бедность. Если он завтра проиграет, то будет не только разорён, но и попадёт на каторгу. Впрочем, это совершенно невероятно. Как бы ни было пристрастно наше правосудие, оно не может закрыть глаза на очевидные доказательства. Торриано будет опозорен, а его адвокату придётся ещё хуже — он отправится на галеры, где ему уже давно пора быть.
Зная за милейшим Торресом склонность к злоязычию, я не стал принимать его слова за чистую монету. Когда я пришёл в зал заседаний, судья и обе стороны были уже на месте. Фермера защищал почтенного вида старец, зато адвокат графа имел вид продувной бестии. Рядом с ним сидел сам Торриано, изображая презрительную улыбку могущественного вельможи, намеревающегося изничтожить наглеца, не сдавшегося после первого удара. В суде собралось всё семейство несчастного фермера: жена, братья, сестры и дети. Две дочери бедняка показались мне созданными для того, чтобы выиграть самый безнадёжный процесс. Вид сих несчастных, облачённых в лохмотья и с глазами, полными слёз, возбуждал искреннее сочувствие, и в тайне я желал им полного успеха. Мне сказали, что каждый адвокат имеет право говорить два часа, однако же выступавший с апелляцией закончил свою краткую и убедительную речь через двадцать минут. Он представил судьям подписанные графом квитанции до того дня, когда фермер был прогнан за то, что как честный отец не хотел отпускать своих дочерей в замок к господину графу. Затем с величайшим хладнокровием и точностью адвокат обратил внимание на счётные книги графа, по поводу которых приведённые к присяге сведущие люди подтвердили небрежность в записях. Он тут же указал на совершенно явные подделки и предложил предать суду тех, кто повинен в этом мошенничестве, содеянном по приказанию Торриано.
В заключение защитник потребовал от имени своего клиента снять с последнего все судебные издержки и присудить ему возмещение за потерянное время и ущерб репутации.
Ответ адвоката, защищавшего честнейшего графа, продлился бы более двух часов, если бы суд не велел ему остановиться. Речь эта состояла из одной лишь клеветы и оскорблений противу всего света — крестьянина, его защитника и даже самих судей, коим он осмеливался угрожать, ежели они окажутся достаточно честными и осудят благородного графа. Сей человек был или пьян, или повредился в рассудке, и я умер бы от скуки, не будь здесь отменного развлечения, заключавшегося в рассматривании физиономий членов суда, тяжущихся сторон и публики. Когда судьи удалились в комнату совещаний, Торриано подошёл спросить моё мнение.
— Может быть, вы и правы, но всё равно проиграете только из-за того, что суд захочет наказать вашего адвоката.
Через час секретарь вручил защитникам обеих сторон по небольшому листку. Торриано с живостью схватил бумагу и, быстро взглянув, громко рассмеялся. Я подумал, что он выиграл, однако в самом деле случилось обратное: суд постановил считать фермера графским кредитором, взыскать с Торриано судебные издержки и годовой заработок в его пользу. Хоть граф и смеялся, но смех этот был вымученный, и под ним проступала краска гнева. Что касается адвоката, то этот человек явно нуждался в утешениях, и граф сунул ему в карман дюжину цехинов.
— Вам остаётся только один выход — послать апелляцию в Вену, — сказал я Торриано. Он ответил, едва сдерживаясь:
— Я буду апеллировать другим способом.
На следующий день мы уехали из Гёртца. Подавая счёт, хозяин гостиницы сказал, что я могу не платить, и тогда расход будет отнесён на счёт графа. Этот и два предыдущие случая подобного рода красноречиво свидетельствовали, что мне предстоит провести шесть недель в обществе опасного оригинала.
В Спессу мы прибыли в два часа пополудни. Графский замок, построенный на горе, представлял собой большую башню совершенно невыразительной архитектуры. Обстановка комнат, составленная из мебели готического стиля, также не являла собой ничего примечательного. Торриано показал мне всё в подробностях, вплоть до погреба и чердака. По окончании осмотра он проводил меня в маленькую каморку нижнего этажа, которая слуховым окном выходила во двор, и посему была лишена воздуха и солнца. Здесь же стояла кровать, показавшаяся мне подозрительной, кресло с отломанными колесиками, колченогие стулья и разваленный секретер.
— Вот и ваша комната, — сказал он, — как вам нравится? Мой батюшка, столь же страстный любитель наук, как и вы, просто обожал её.
— У него был отменный вкус! — ответил я, слегка улыбнувшись.
— Сей апартамент имеет два больших преимущества — здесь вы никого не видите, и вас никто не видит.
— Охотно верю, ведь сюда и свет-то еле проникает.
— И вы будете наслаждаться здесь полнейшим спокойствием.
— Чувствительно вам признателен.
Я благодарил его с иронией, но сам задыхался от гнева, однако сей скот так ничего и не приметил. Обедали поздно, и поэтому ужина вообще не подавали. Кушанья оказались недурными, но зато вино было совсем скверное. Правда, Торриано хвалил свой погреб, и я сделал ему комплимент, притворившись, что принял слова его за чистую монету, но в опровержение собственных похвал пил одну только воду.
— Вы много едите и ничего не пьёте, — сказал граф.
Я ничего не ответствовал на сию выходящую из ряда неучтивость. Через минуту граф резко поднял бокал и объявил, что сам он уже отобедал, а я могу оставаться за столом. Его новая выходка лишила меня аппетита, и я удалился к себе в комнату совершенно разъярённый. Время после обеда ушло на разбор бумаг, относившихся ко второй части моей “Истории польской смуты”. В сумерках я вышел, чтобы спросить света, но звал и кричал понапрасну — никто меня не слышал. Пришлось с ругательствами возвращаться в свою трущобу. Какой вечер! И проклятый Торриано почитает это гостеприимством! Наконец, по прошествии получаса лакей, похожий на крестьянина, принёс мне вонючий канделябр. Неужели нельзя было дать восковую свечу или хотя бы лампу? Однако же я не сказал ни слова, решившись ни на что не жаловаться, а только спросил у сего деревенского чучела, определён ли ко мне в услужение хоть кто-нибудь.