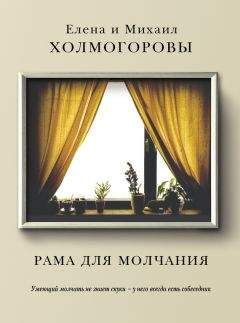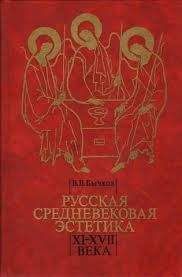Меня в снах поражает всегда не то, что, собственно, происходит, не странные сопряжения и допущения, воспринимаемые естественно, а с одной стороны – физически осязаемые вещи (как сквозняк, прохвативший ноги) и нравственные радости, страдания или же угрызения совести.
Вопрос о том, как соотносятся сны с дневными переживаниями, меня занимает мало. Я столько за жизнь проанализировала своих снов, что вполне убедилась в произвольности любых трактовок. А как в юности мы упивались запретным Фрейдом, его «Толкованием сновидений», пытались вычленять те самые «дневные остатки», стыдясь тогда еще не так откровенно высказываемых сексуальных подтекстов… А сейчас мне это кажется таким же наивным, как «Сонник» Мартына Задеки.
И все же мы придаем значение снам, рассказываем о них, пытаемся проследить, откуда они могли произрасти и к чему ведут. А сны, описанные в литературе, особенно вещие, привыкли числить по ведомству банальностей или красивостей. И если готовы стерпеть библейские сны Иосифа и античные сны Гекубы, то уже «сон Татьяны», потому только, что это Пушкин, а прочее – от лукавого, не говоря уж о всех пяти снах Веры Павловны. Но это универсально: жизнь богаче литературы. О чем-то случившемся реально, но казавшемся невероятным мы говорим, «как в романе», зато придуманному, где допускаются немыслимые совпадения, не прощаем, говорим «так не бывает».
Мы не готовы поверить, что Вагнер увидел во сне музыкальные темы «Тристана и Изольды», а Менделеев – со школьных лет известную нам таблицу, но к собственным сновидениям относимся с завидной серьезностью.
Слово «сон» обозначает и сновидение, и процесс сна. Так и просится использовать это как доказательство того, что сна без снов не может быть. Но, например, в «невеликом и немогучем» английском языке, тем не менее покорившем весь мир, эти значения разведены в два разных слова, зато «видеть сны» и «мечтать» обозначаются одним словом «dream», а во избежание двусмысленности мечты иногда определяются как дневные сны – “daydream”, то, что по-русски, пожалуй, адекватно устаревшему «грезить наяву».
Почему, как правило, между мыслью, с которой засыпаешь, и первой утренней пролегает пропасть? Почему «утро вечера мудренее»? Почему, «восстав ото сна», надо сотворить молитву «прежде всякого другого дела»? Ответ лежит на поверхности: всякий сон – прообраз смерти, ведь во многих религиозных и философских системах постулируется, что на это время душа покидает тело.
А ночные кошмары хороши тем, что можно «легко проснуться и прозреть» и, стряхнув сон в обоих значениях слова, изумиться: насколько, оказывается, на самом деле прекрасна так мало ценимая нами жизнь…
Михаил Холмогоров Похвала арьергарду
Моя молодость пришлась на время геронтократии. Сменившие Хрущева вожди неудержимо старели, впадали в маразм, подбадривая себя на юбилеях: «Вы, Леонид Ильич, вступаете в возраст творческой зрелости» – говорилось в дни его семидесяти– и повторялось в семидесятипятилетие. «Молодому» Горбачеву, когда он пришел наконец к власти, аккурат стукнуло пятьдесят четыре года. Ленин в этом возрасте уже лежал в мавзолее.
Литература как зеркало эпохи в те годы тоже страдала геронтократией, и, как тогда острили, лучшей рекомендацией в союз писателей была справка о реанимации: средний возраст члена творческого союза превышал 60 лет. Впрочем, для меня беда обернулась выигрышем: наивные упражнения, когда руководствовались неоригинальным стремлением быть оригинальным, сами собой исчерпались в черновиках. Первая публикация прозы состоялась, когда мне было тридцать семь лет, а первая книга вышла еще шесть лет спустя: в 1985-м. Правда, ее целый год изучала цензура, рассвирепевшая по приказу Андропова, и так пощипала, что пришлось немало потрудиться, чтобы заполнить восемь опустошенных страниц.
Арьергард вступает в сражение, когда иссякли силы авангарда. Им и одерживаются чаще всего победы. Мне довелось изучать историю русско-турецкой войны 1877 – 78 годов на Кавказском фронте. После первых побед русская армия ждала подкреплений, но турки пришли в себя и сосредоточили против нее заметно превосходящие силы. Пришлось отступать, и тут проявился стратегический талант командующего русской армией генерала М.Т.Лорис-Меликова. Арьергард при отступлении давал такие сражения, что противник не смог воспользоваться своим численным превосходством, да он и не догадывался об этом. К сожалению, наука отступать не очень изучалась в наших военных академиях, что катастрофически сказалось в последующих войнах.
К какому авангарду ни подступись, там уже толпы тщеславцев.
Всем хочется быть первыми, несмотря даже на полное отсутствие задатков. Едва возгласили Хлебников и Маяковский будетлянство, орава стихотворцев заявила о принадлежности к футуризму. В живописи шедевры Кандинского были затоптаны стадами клевретов и подражателей.
Песнь социальному арьергарду сложил Веничка Ерофеев, оплевав карьерную лестницу с ее нижней ступени.
В силу замедленной реакции в детских игрищах и забавах мне чаще всего приходилось являться уже к шапочному разбору, если не позже. Но не зря для таких типов Эзоп и дедушка Крылов написали «Лисицу и виноград». Не такой дешевый, но способ успокоить досаду и даже извлечь неожиданные преимущества всегда найдется.
И первое нашлось в истории искусств.
При всей любви к импрессионистам должен признать: ну куда им до Рафаэля и Микеланджело, еще в ХVI веке поставившим вопрос о сомнительности прогресса в таком тонком деле, как живопись.
Один мой знакомый, поклонник Баха и Моцарта, заявил как-то, что в своем музыкальном развитии он застрял на уровне восемнадцатого столетия.
Притча о хозяине виноградника для меня, несмотря на все ее толкования, – самое уязвимое место в Евангелии. Здесь Иисус Христос оправдывает произвол («Разве я не властен в своем делать что хочу?» – Мф. 20:15) и очевидную несправедливость. Но я о другом, о конечном выводе: «И последние станут первыми» – не хвала ли арьергарду?
Поспешай не торопясь.
Нео-, пост– – ничего нового. Кажется, все уже написано, все сказано. Чем держится литература? Известное дело: тот не критик, кто не хоронил литературу. От Бестужева-Марлинского до наших акул и килек пера.
«Во всем мне хочется дойти до самой сути». Заметьте – не добежать. Хождение к сути не терпит суетливой скорости. Прекрасное и есть в искусстве его суть, а, как сказано, «прекрасное должно быть величаво».
Уже приходилось рассказывать, что Иван Петрович Павлов в 1918 году на драматические события России отреагировал специально прочитанным циклом лекций на тему «Об уме вообще и русском уме в частности». Одну из истин, открытых Павловым в тех лекциях, я много раз вынужден повторять себе: «Очевидно, у нас рекомендующими чертами являются не сосредоточенность, а натиск, быстрота, налет. Это, очевидно, мы и считаем признаком талантливости; кропотливость же и усидчивость для нас плохо вяжутся с представлением о даровитости. А между тем для настоящего ума эта вдумчивость, остановка на одном предмете есть нормальная вещь». Я в своей жизни наворотил уйму ошибок. И чаще всего, анализируя их, начинал догадываться, что произошли они от этих самых «натиска, быстроты, налета».
Не надо никуда торопиться, даже в ситуации катастрофы следует хотя бы на миг остановиться, осмотреться, обдумать. Лучшее средство против паники, эмоционального вовлечения во всеобщий ажиотаж. Тут нужны известное мужество и воля. А мы и в обыденной жизни спешим, как на пожар.
Это слепое устремление к новизне сказывается в такой области, как топонимика. Сколько улиц, площадей, заводов, кинотеатров, клубов носит гордое название «Авангард»! А вы хоть раз встретили кинотеатр «Арьергард»?
Когда-то вычитал, что Флобер, опекавший молодого Мопассана, долго – целых семь лет – не позволял печататься своему бойкому и несомненно талантливому другу: ждал, когда созреет.
Жажда непременного первенства вовсе не означает силы. Первый подчиняется импульсу. Может, как раз в арьергарде и скапливается подлинная сила, сила души и ума. Отставший вынужден умнеть, во всяком случае, набираться мудрости.
В арьергарде есть риск опоздать к последней раздаче. Не всякому последнему дано стать первым. Ну да, риск. А где его нет? Даже Обломов всем своим образом жизни рисковал и в итоге оказался обманут и разорен.
В сегодняшней литературе арьергард – это чистый, грамотный, благозвучный (в соответствии со своей музыкальной природой) русский язык. И полная свобода от всяческих манифестов и деклараций.
С приходом в технику письма компьютера возникла возможность сочинять не последовательно, глава за главой, а произвольно: сегодня ты вписываешь абзац в двадцать третью главу, а завтра возвращаешься к прерванной на полуслове четвертой. Я так и попробовал, когда писал свой роман «Жилец» – расположил главы по внутренней логике, поступившись шкалой времени. И все под руками расползлось, пока не догадался вернуться в застарелую арьергардную форму гончаровских и толстовских повествований – соблюдая элементарную хронологическую последовательность. В одном издательстве рукопись вернули со словами: «Как будто в девятнадцатом веке написано». Я воспринял как комплимент, притушивший досаду. Им нужны великие потрясения, а мне – великая литература. А сейчас, когда извечная гордость великороссов «русские – самый читающий народ» растворилась в тумане рыночных преобразований, само по себе чтение – немыслимый арьергард.