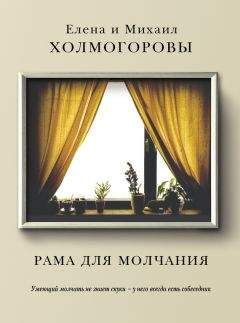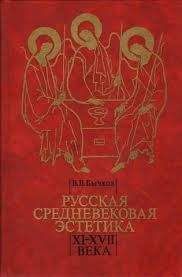Особое мужество требуется, чтобы стать лирическим писателем. Избравший этот путь глух к призывам как официальной, так и оппозиционной критики к открытой гражданственности, к четкой идейной позиции; он намеренно сопротивляется соблазну тщеславия прорваться в писатели «первого ряда», что с авторами эпических полотен происходит независимо от их мировоззрения, будь то Солженицын или, наоборот, Шолохов. Но почему-то с лирической литературой советская власть расправлялась особенно круто. Если вспомнить биографии русских поэтов советского времени, удивительная странность обнаруживается: революционеры, ниспровергатели основ с пылкими гражданскими страстями прожили, смирившись, жизни довольно благополучные, хоть и подловатые. Исключения, конечно, были, но именно исключения. А эстеты, небожители – Ахматова, Волошин, Андрей Белый, Гумилев, Мандельштам, Пастернак, Цветаева – были обречены на героические судьбы. В чем же так виноваты перед режимом оказались эти «певцы интимного мирка», как презрительно определяла их творчество официальная, государственная критика?
Литература лирическая таинственна, непонятна скудному схематическому рассудку. А непонятное страшнее прямой вражды. В мире, где «шаг вправо, шаг влево рассматривается как попытка к бегству», поэт не смеет жить по законам, самим над собою признанным. Это верно для всех тоталитарных систем, в которых легче отпустить на волю ясного как день разбойника, а уж казнить – так Иисуса Христа, понятного лишь избранным; помиловать в минуту раскаяния вора, но ослепить Барму и Постника… И реакция, и революция в выборе жертвы всегда почему-то единодушны.
Вступая на путь лирической прозы, Юрий Казаков прекрасно осознавал, на что шел. Неслучайно его единственное эссе называется «О мужестве писателя». Логическому прямолинейному разуму трудно дается этот силлогизм: литература и мужество. Почему из всех человеческих достоинств писателю первым требуется именно это? Рассказ написать – не на амбразуру же бросаться! Миллионы рассказов написаны до Казакова, миллионы будут писаться и после него… При чем тут мужество? А при том, что из миллионов сохранятся лишь десятки, оставленные после себя мужественными людьми.
В шестидесятые годы уходили из жизни учителя – целое поколение русских писателей, чудом выживших в годы неслыханной тирании и ставших как нравственным, так и художественным авторитетом нашей духовной жизни, – Б.Пастернак, А.Ахматова, К.Паустовский… Когда живы носители национальной нравственности, людям слабым, неустойчивым к мирским соблазнам бывает несколько затруднительно совершать поступки нечистоплотные. А с их уходом наступает беспризорность и становится всё можно, всё дозволено. Как-то трудно представить себе при живом Паустовском странные метаморфозы, происшедшие с одним из любимых его учеников, стоявшим у истоков «лейтенантской» прозы. Но для таланта сильного эта безнадзорность, эта свобода обрушивается новой мерой ответственности.
«Бывают странные сближения», и нечаянные совпадения обретают роковой смысл. В середине шестидесятых годов резким, внезапным ударом – арестом и судебным процессом А.Синявского и Ю.Даниэля – оборвалась Оттепель. А с ней – все надежды отвоевать новые миллиметры свободного пространства в темах, стилистике, в художественном образовании мира. Вся лирическая проза Юрия Казакова, написанная в годы Оттепели, была пронизана светлым и тревожным, как перед дальней дорогой, ожиданием и надеждой. А вдруг оказалось, что ждать нечего, надеяться не на что. Весна отменяется, и надо думать, как и чем жить дальше.
И писатель замолк. Много раз брался за продолжение «Северного дневника», за старые свои замыслы… В минуты отчаяния – а они часты, почти ежедневны, когда не пишется, – казалось, что не только ожидание и надежда, но с ними и сам талант покинул его.
А между тем Юрия Казакова признали. Странным было это признание. Удушающим. От него наконец отцепились и даже зачислили в «обойму», и иногда по литературным праздникам звучало: «такие прозаики, как Ю.Нагибин, Ю.Трифонов, Ю.Казаков…», а дальше калибр намеренно мельчал, чтобы начавшие список знали свое место, – и все. Выходили книги, и судьба их была удивительна. Самому автору для подарков знакомым не всегда удавалось их купить – они исчезали с прилавков моментально и даже не всплывали спустя годы единичными экземплярами в букинистических магазинах. И полное, гробовое молчание литературных журналов и газет.
К тому времени если не профессиональным критикам, то настоящим ценителям литературы было ясно, что Юрий Казаков – автор непревзойденной прозы: «На полустанке», «Некрасивая…», «Голубое и зеленое», «Тихое утро», «Арктур – гончий пес», «Нестор и Кир», «Осень в дубовых лесах», «Плачу и рыдаю…», «Проклятый Север» – все эти вещи будут жить, пока жив русский язык, без них нет нашей литературы ХХ века. Понимал это и сам писатель, у него доставало сил и профессионализма без ущерба для репутации выдавать новые рассказы, не снижая достигнутого уровня. Но – не мог. Не хотел.
Давно отлетело юношеское тщеславие, а гордое самолюбие, напротив, не выпускало тексты на публику. Пришло ясное понимание истины: писатель служит не ценителям литературы, а самой литературе, совершенству, он ищет Бога в Слове. А потому множатся черновики и скудеют беловики. Скудеют, скудеют и, наконец, безжалостно уничтожаются рукой взыскательного художника. Одному посредственному писателю в ответ на жалобы, что не признают, не печатают, Казаков с тяжкой грустью ответил:
– Куда ты суешься, чудило?! Литература – это же смертное дело!..
В работе над словом рано или поздно настает момент, когда перо стремительно летит, обгоняя мысль, слова сами, даже не помимо, а где-то над изумленной волей автора выстраиваются в гармонические ряды, а потом в середине натруженного рассказа, повести, романа возникают страницы… Эти странички, абзацы, эпизоды особенно осязаемы в прозе, будто свет от них исходит, но блекнет рядом весь прочий текст. Это великолепно, когда писатель, измучив уйму черновиков, находит точное слово, но это божественно, когда слово находит писателя. Да только чтобы слово нашло писателя, надо тысячи раз находить самому.
Драма казаковского почти десятилетнего молчания в том, что его истерзала страсть писать словами не теми, которые нашел автор, а теми, что нашли автора. Слово найденное, пусть даже и в муках, перестало удовлетворять: в нем обнаруживается конструкция, то есть авторское своеволие. Звуков фальшивых не было, Казаков органически был неспособен писать небрежно, но были звуки лишние – только чуткое и жестокое ухо автора могло различить их. Но – различало. И перо останавливалось.
Молчанию была еще одна, может быть, менее существенная, причина. Ушла тема. В свое время А.С.Пушкин, прочитав ершовского «Конька-Горбунка», заметил: «Этот жанр я могу оставить». Юрий Казаков, первым поднявший всерьез, без штампов, тиражировавших по всем селам и весям лубочную схему «Поднятой целины» или «Счастья», тему русской деревни, мог уже спокойно оставить ее, – с середины шестидесятых годов начался подъем «деревенской прозы», пора открытий на этой ниве для Ю.Казакова кончилась.
Опыт странствий, этнографических изумлений иссяк, а опыт оседлой сосредоточенности налаживается долго и терпеливо и требует высшего мужества.
23 февраля 1963 года Юрий Казаков оставил в дневнике такую запись: «Написать рассказ о мальчике 1,5 года. Я и он. Я в нем. Я думаю о том, как он думает. Он в моей комнате. 30 лет назад я был такой же. Те же вещи». И почему-то на той же странице: «Джаз поет о смерти, все о смерти – какая тоска! Но жизнь. А он все о смерти».
Обозначена тема. Найдено ее музыкальное сопровождение. Надо сказать, джаз, хороший джаз, всегда почему-то печальный, всегда о смерти, звучит во всех лучших рассказах Юрия Казакова, иногда даже и не упоминается, но все равно звучит, завораживая блюзовой тоской. «Но жизнь». И действительно, в смертной тоске сила жизни пробивается яростнее.
Вроде все есть для рассказа. Садись и пиши. Ведь совсем недавно, по тому же дневнику судя, рассказ «Вон бежит собака!» написан всего за три часа. Великолепный рассказ, тонкий, поэтичный. И какие слова в нем найдены, чтобы описать легкое, смутное влечение, а потом не то досаду, не то раскаяние… То-то и оно, что найдены. А новая тема требует иных слов.
Нужно прожить одиннадцать лет интенсивной, напряженнейшей внутренней жизни, чтобы тебя нашли эти иные слова и повели все ту же, давно найденную мелодию: «Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться – хоть вешайся!» Так начинается «Свечечка» – рассказ, полный мыслей и чувств неслыханной простоты – о родине, об отчем доме, о любви к ребенку и любви самого ребенка… С этими мыслями, чувствами человек является в мир, но проходит вся жизнь, чтобы через метания и пустую суету, сомнения, заблуждения, разочарования и надежды вновь открыть эти истины, как в первый раз.