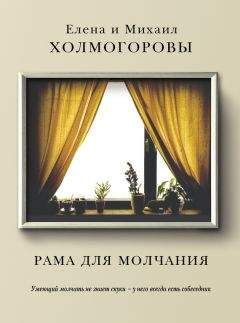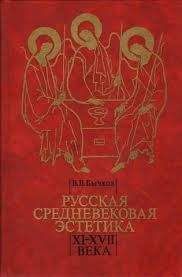У самовара по четвергам, а потом по субботам собирались гости – художники И.Е.Репин, В.А.Серов, Н.Н.Ге, А.М.Васнецов, В.Д.Поленов и, конечно, писатели – А.Н.Островский, Д.В.Григорович, Н.С.Лесков, В.М.Гаршин, А.П.Чехов, В.Г.Короленко, И.А.Бунин, Максим Горький. И возник кощунственный соблазн: положить на деревянный поднос в лапах медвежонка свои визитные карточки…
Лев Николаевич прожил в Хамовниках девятнадцать лет, точнее, зим, потому что летом семья перебиралась в Ясную Поляну. Но Толстой не был городским жителем, и лишь слово, данное Софье Андреевне, и забота о хорошем образовании для детей вынудили его стать москвичом. Поселился он не в типичном для того времени доме-особняке, а в усадьбе, купленной летом 1882 года у коллежского секретаря И.А.Арнаутова. «У сада» – ключевое слово. Сад для столичного города большой – целый гектар. Там много цветов, яблоневая аллея и нарядные каждой осенью клены, ясени, березы. Была даже насыпная горка, откуда зимой съезжали на санках. А еще заливали перед домом каток, где любили кататься на коньках не только дети, но и взрослые.
О перестройках и обстановке дома Лев Николаевич хлопотал сам. Свои переживания по поводу обустройства дома, не утратившие свежести, Толстой с известной долей самоиронии отдал герою здесь, в Хамовниках, написанной повести «Смерть Ивана Ильича»: «Засыпая, он представлял себе залу, какою она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики, разбросанные, эти блюды и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус». И далее: «Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в кабинет и ахали от удовольствия, – он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия».
Сравним:
«Мы приехали в Арнаутовку вечером. Подъезд был освещен, зала тоже. Обед был накрыт, и на столе фрукты в вазе. Вообще… видно, что папа́ все обдумал и старался все устроить как можно лучше, чего он вполне достиг». Это из воспоминаний дочери Толстого Татьяны Львовны о дне 8 октября 1882 года, когда семья Толстого наконец переехала в московскую усадьбу.
«Смерть Ивана Ильича», может быть, самое смелое по замыслу и исполнению сочинение Толстого. Вопрос: «А что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь была “не то”?», терзающий героя перед лицом смерти, по сути, и есть главный, мучительный вопрос для самого писателя.
Как известно, к художественным произведениям своим Толстой относился (вернее, по нашему убеждению, пытался относиться) как к чему-то побочному, второстепенному: «Хочется писать другое, но чувствую, что должен работать над этим… Если кончу, то в награду займусь тем, что начато и хочется». Антагонизм «должен» и «хочется» явлен здесь со всей очевидностью. По разряду «должен» писались статьи «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», «О жизни», «Царство Божие внутри вас»… «В награду» же здесь, в хамовническом доме, были созданы, в частности, «Воскресение», «Крейцерова соната», «Отец Сергий» и «Смерть Ивана Ильича».
В нашем привычном представлении Лев Толстой – или тот, что на портрете Ге: великий писатель за работой, – или босой старик в посконной рубахе, подвязанной ремешком, а то и простою веревкой. Огромный, в шестнадцать комнат, особняк слегка посмеивается над опрощением своего хозяина – крестьянствующего графа. Впрочем, дом – жилище многодетной семьи: семеро сыновей и дочерей от двух до восемнадцати лет. Еще два мальчика родились здесь, но умерли маленькими. В 1884-м появилась на свет Александра Львовна, прожившая дольше всех детей Толстого, до 1979 года. А ведь кроме детей – гувернеры, экономка Дуняша, портниха, кухарки, десять человек прислуги в доме и флигелях. Большое хозяйство: каретный сарай с конюшней, даже корова… Один из флигелей украшает вывеска «Контора издания», где жил со своей семьей конторщик, помогавший Софье Андреевне, как известно, не по одному разу переписывавшей набело сочинения мужа, в их выпуске в свет.
Семья великого человека в своих ежедневных проявлениях ничем не отличается от любой другой: младенцы плачут, дети ссорятся из-за деревянной лошадки, учителя бранятся за невыученные уроки, домашняя портниха пришивает бесчисленные пуговицы, старшие принимают в гостях соучеников, звенят чашки и блюдца в буфетной…
И во главе этого сложного механизма – Софья Андреевна. Обустраивая дом, Лев Николаевич писал жене в Ясную Поляну: «За дом я что-то робею перед тобой. Пожалуйста, не будь строга». А вот о чем пеклась Софья Андреевна: «…гению надо создать мирную, веселую, удобную обстановку, гения надо накормить, умыть, одеть, надо переписать его произведения бессчетное число раз, надо его любить, не дать поводов к ревности, чтоб он был спокоен, надо вскормить и воспитать бесчисленных детей, которых гений родит, но с которыми ему возиться и скучно, и нет времени». Жена писателя – это профессия, и профессия тяжелая.
Великий человек притягивает обаянием своего творчества, но не стоит обольщаться. Неуют от близости со Львом Николаевичем точно описал М.Горький: «Удивляться ему – никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже – в одной комнате. Это – как в пустыне, где всё сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью».
Уже в который раз замечаем, что очень часто в домах-музеях живое чувство возникает вовсе не там, где предполагалось. Так и сейчас. Не в кабинете, не возле письменного стола, за которым создавались шедевры, а в столовой, у стола обеденного, образ Толстого увиделся ярче всего. Одна мелкая деталь: около его тарелки стоит стакан для воды. И кажется, что вот-вот пробьет шесть часов, войдет Лев Николаевич, сядет на свое место, а Софья Андреевна начнет разливать суп из сине-белых супниц, одна из них – меньшая – вегетарианская.
И еще. Смотрительница, с явным любопытством прислушивавшаяся к нашему разговору, вдруг сказала: «Знаете, тут во время ремонта случилась беда: разбилась вон та зеленая лампа, любимая графа. Посчитали – 165 мелких осколков. И представляете – вот чудо техники: так склеили, что ни трещинки не видно».
Нет и не может быть такой техники, чтобы воскресить ушедшую отсюда жизнь.
Зато есть сила воображения…
У Антона Павловича
Дом этот на Садовой-Кудринской узнается по прозвищу, которое дал ему самый известный обитатель: «Живу в Кудрине, – сообщал А.П.Чехов в одном из писем, – против 4-й гимназии, в доме Корнеева, похожем на комод. Цвет дома либеральный, т. е. красный». Дверь с табличкой «Доктор А.П.Чехов» заперта – вход в музей расположен в пристройке с крылечком. Быстро минуем первый зал с видами Москвы и книгами на витринах (впрочем, два экспоната задерживают наше внимание: свидетельство об окончании медицинского факультета Московского университета, подписанное Н.В.Склифосовским, и карманный «Календарь врача» за 1884 год: в точности такой же, но за 1881-й хранится в нашем домашнем архиве) и оказываемся в прихожей, у той самой запертой двери, только изнутри. Вот теперь-то легко представить себя гостем этого дома: пациентом доктора, курьером редакции «Русских ведомостей», литератором или художником, другом брата Николая. Маленький столик, на нем – поднос для визитных карточек, которые гости оставляли, разминувшись с хозяином дома. Первым бросился в глаза прямоугольничек:...
Архитектор
Франц Осипович
ШЕХТЕЛЬ
Конечно, Чехову лучше было б жить не в «красном комоде», а в особняке работы Шехтеля, тут какая-то трудноуловимая, но очень прочная связь. Впрочем, в шехтелевском здании живут пьесы Антона Павловича, а чайка, будто в соавторстве созданная, – эмблема театра в Камергерском переулке. Как ни дико звучит на неопытный слух, но Чехов, несомненно, принадлежит русскому модерну.
Прихожая ведет прямо в кабинет – просторную проходную комнату. В те времена о коммунальном быте представления не имели, и квартиры строились так, что почти все комнаты были проходными. Для кабинета врача неудобнее не придумаешь, да и писателю каково: сосредоточишься ли тут?
Здесь главенствуют два предмета: письменный стол и докторский баульчик с инструментами. На письменном столе, в отличие от многих музеев, нет копий авторских рукописей. Он чист, прибран и украшен двумя портретами – Чайковского и Левитана… О дружбе с Левитаном написаны десятки статей и книг, Чайковский, к которому с трепетом почитателя относился хозяин дома, удивил своим внезапным визитом. Еще бы не удивиться! К писателю, только-только расставшемуся с юношеским псевдонимом Антоша Чехонте, вдруг входит сам Петр Ильич!
Но царствует на столе, конечно, чернильница с бронзовым конем – подарок пациентки, которой доктор Чехов прописал лекарство и сам же его купил: у бедной женщины тогда не было денег. Ничего нарочитого, искусственного. Но вот эта чистота, порядок на столе убеждают в подлинности больше, чем любой наглядный экспонат: садись и пиши, всё приготовлено. Это вам не «алтарь творчества», возведенный плексигласовыми стенками вокруг гоголевской конторки. Это, скорее, по-цветаевски: