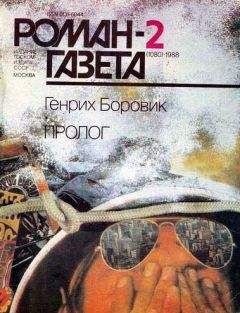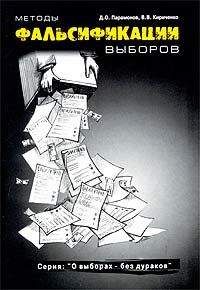Сегодня голосование в конвенте. Ребята полны живой веры, что своими демонстрациями смогут повлиять на решение конвента, смогут помочь сенатору Маккарти победить.
— Мир сейчас! Мир сейчас! Мир сейчас! — Несётся крик. Ребят никто не гонит. Некоторые из них сели на асфальт.
— Мир сейчас! Мир сейчас! Маккарти! Маккарти!
Но вдруг два полицейских каре теряют форму, расплываются, как расплывается квадратик масла, если бросить его на горячую сковороду. Копы подходят к демонстрантам. Подходят спокойно, медленно. Обволакивают всю толпу плотной стеной. За голубыми рубашками уже нельзя рассмотреть ребят, сидящих на асфальте.
Ребята теперь не кричат. Они поют.
Никто из полицейских им ничего не сказал. Никто не подал команды вставать и уходить или перестать петь. Никто не сказал бранного слова. Не замахнулся.
Просто голубые рубашки стояли перед ребятами плотной стеной, плечо к плечу, каска к каске, и держали в руках около колен свои полицейские палки. Будто тяжелоатлеты, которые подняли тяжёлые штанги с земли, выпрямились и вот сейчас рывком поднимут их на грудь. И только ждут чьей-то команды. Кто-то должен подать команду.
Но команды все не было. И полицейские все стояли перед ребятами. А те продолжали петь. Часть корреспондентов сгрудились за полицейскими.
Чак поднял камеру к глазам.
Я тоже подумал, что сейчас что-то произойдёт. Но не предполагал, что произойдёт такое.
Команды я не слышал. Не знаю, кто подал её. Только вдруг сразу пришли в движение голубые рубашки. Сразу взлетели вверх и опустились десятки палок. Я услышал пронзительный крик, который тут же оборвался. И треск. Палки поднимались и опускались. Я даже не понял сразу, что треск связан именно с этими движениями полицейских. Снова кто-то закричал пронзительно. Только тут мне стало ясно, что треск этот — от ударов полицейскими палками по голове, по костям, по телу.
Люди бросились бежать. Полицейские ловили их. Привычным движением выкручивали руки. Или зажимали шею в сгибе левой руки, а палкой — по голове, по лицу, по ключицам.
Кто-то закричал:
— Гестапо! Гестапо! Палачи! Весь мир смотрит на вас!
Крик подхватили, стали скандировать. Но что толку в крике?
Сверху, из окон отеля, вдруг полетели в полицейских, разматывая длинные хвосты, рулончики бумаги. С мягкими шлепками они падали на дорогу, иногда угождая в каску полицейского. Это было похоже на бой серпантина. Только бумажная лента была шире и тоньше. Длинными бумажными хвостами играл ветер. Я не сразу сообразил, что оттуда, сверху, кидают в полицейских рулончиками… туалетной бумаги. Полицейские поднимали противогазные рыла вверх и грозили верхним этажам дубинками. Бумажные хвосты нежно обвивали полицейские ноги. Копы, злясь, рвали бумагу руками.
На пятнадцатом этаже отеля «Хилтон» была штаб-квартира сенатора Юджина Маккарти — претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократической партии. Там сидели молодые ребята — студенты и школьники — добровольцы, помогавшие Маккарти в предвыборной кампании. Но помочь своим друзьям на улице они могли только символически — рулонами туалетной бумаги, которыми и швыряли в полицейских.
И, наверное, это выглядело бы очень смешно, если бы тут же на улице не лилась человеческая кровь.
Вдруг позади кучки корреспондентов послышался тяжелый топот. Чак, который бешено работал фотоаппаратом, рванул меня за рукав:
— Беги! — и сам бросился через улицу. Я побежал за ним. Откуда-то вырвавшийся отряд полицейских расшвыривал фотокорреспондентов. Я видел, как палка опустилась на плечо фотографа из «Лайфа». Вместе с Чаком мы прижались к стене отеля, стараясь вдавиться в нее. Сине-красно-голубая полицейская масса промчалась мимо. Но один коп вдруг вернулся. Подбежал к нам. Протянул красную руку к Чаку. Тот нагнулся, как советовал делать специалист из «Лайфа», закрыл руками в перчатках лицо и голову. Но коп не стал бить. Он схватил рукой фотоаппарат, рванул его с такой силой, что ремешок оборвался, размахнулся и со всего маху ударил камерой об асфальт.
Это произошло в секунду. Я только увидел бешеные глаза под небесно-голубой каской.
— Что вы делаете?! Он — пресса! Он — пресса! — закричала какая-то женщина в подъезде отеля, где стояли корреспонденты.
Полицейский взглянул в сторону голоса невидящими глазами. Сделал туда шаг. Потом передумал, выругался грязно и убежал догонять своих.
— Сволочь! — сказал Чак и поднял изуродованный аппарат. — Эта плёнка пропала. Сволочь!
Как кули, одного за другим тащили полицейские ребят к машинам. Тащили и продолжали бить. Ребята не сопротивлялись. Я не видел ни одного, кто оказал бы сопротивление. Это были безжизненные, иногда окровавленные тела. Копы волокли их, зажав им шею в левом локте и продолжая опускать правой рукой дубинку на голову.
Послышались звуки разрывов. И тотчас я ощутил резь в глазах и в носу. Слезоточивый газ. Полицейские бросали гранаты в толпу, которая стояла по бокам отеля. Гранаты разрывались, как хлопушки. С вспышками пламени. Синий дым клубами плыл над толпой.
Именно этот дым, достигший верхних этажей отеля «Конрад Хилтон», и заставил прослезиться Хюберта Хэмфри.
Толпа, которая собралась в боковой улице, кричала:
— Палачи! Мир смотрит. Весь мир смотрит. Палачи! Гестапо! Гестапо!
Копы, ловко перестроившись, без паузы бросились в сторону толпы на боковой улице. На подмогу полицейским бежали новые отряды. Бежали строем, квадратами, тяжело стуча башмаками по мостовой. Видимо, кто-то очень точно руководил действиями полиции. Кто-то наблюдал за полем боя, подавал команду по радио.
Били молодого священника. Полицейский, скрутив ему одну руку за спину, толкал его к полицейской машине, а свободной, правой, бил по голове палкой. Белый воротничок священника был в крови. Одной рукой он пытался закрывать голову, полицейский бил по пальцам.
Потерявших сознание копы не тащили к машине, бросали. И скоро на площади перед отелем лежало не меньше десятка фигур. К ним пытались подбегать люди в белых халатах. Это были врачи-добровольцы, приехавшие на место «мирной» демонстрации.
— Прочь! — кричали полицейские. — Прочь! — И отталкивали врачей, как хоккеисты, всем телом.
Я закрыл нос и рот носовым платком, не помогало. Резь в глазах трудно было терпеть. Пробившись вдоль полицейских перил, я вошёл в подъезд отеля.
Сквозь стеклянную дверь на улицу расширенными глазами смотрели женщины в длинных платьях. Одна сказала:
— Уйдём отсюда. Меня тошнит.
В вестибюле все было как обычно. Спокойно и уютно. Кто-то вел по ковру предвыборную обезьянку, одетую грумом. На груди у обезьяны было написано имя кандидата. Из бара, огромное окно которого выходило как раз на то место, где полиция продолжала избиение, неслись звуки джаза. Работал цветной телевизор. Шли передачи из Международного Амфитеатра:
В вестибюль вошёл человек в белом халате. Лоб его был рассечён, текла кровь. Он остановился посреди холла и, ни к кому не обращаясь, сказал:
— Они отобрали у меня аптечку…
Когда я снова вышел на улицу, там уже все было кончено. Перед отелем стояли снова аккуратными каре полицейские в голубых рубашках. Шли роты солдат. Мостовая была пуста. Под ногами у себя я увидел фанерный плакат: «1968 год — год неспокойного солнца. Всё может случиться…» В углу на белой фанере темнело пятно крови.
На другой день стало известно, что пятьдесят ребят и девушек, участвовавших в демонстрации за мир, получили серьёзные телесные повреждения.
Мэр города Чикаго Ричард Дэйли сказал, что беспорядки были инспирированы коммунистами, а полиция Чикаго — лучшая полиция в Соединенных Штатах.
Телетайпистка, работавшая в здании «Хилтона» и пораженная тем, что увидела на улице, послала в адрес конвента демократической партии отчаянную телеграмму: «Боже, на улице кровь. Это невозможно описать. Людей избивают. Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Сделайте, пожалуйста, что-нибудь!»
Телеграмма была получена на скотобойне. Её показали Ричарду Дэйли.
— Всё это штучки людей Маккарти, — сказал он, не шевеля губами.
* * *
Ричард Дэйли. Он грузен. Одутловатое неподвижное лицо. Настолько неподвижное, что, когда говорит, даже губы не шевелятся. Так разговаривают чревовещатели на эстраде. Но глаза быстрые и умные. И сам он лёгок на подъем, спор в ходьбе. Ему пришлось много двигаться на конвенте.
Он один из влиятельнейших боссов партии. Один из тех, кого называют «кингмейкерами». Он решал, за кого будут поданы голоса штата Иллинойс. В его руках не менее ста тысяч голосов для выборов — люди, прямо или косвенно зависящие от муниципалитета, — от негра-уборщика в муниципальном госпитале до городского инспектора по электричеству плюс взрослые члены их семей. Он был хозяином конвента. Не только хозяином, который принимает гостей, но и хозяином, который управляет гостями.