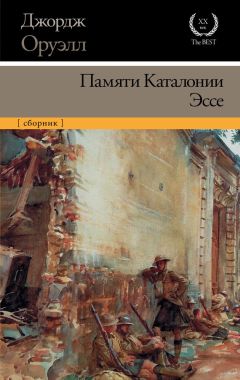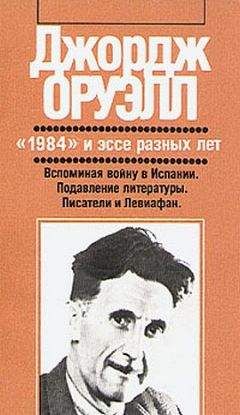Если обратиться к воспоминаниям о войне 1914–1918 годов, то нетрудно заметить, что почти все, что можно читать и по сей день, проникнуто пассивностью и отрицанием. Запечатлены полнейшая бессмыслица, кошмар, разыгрывающийся в пустоте. Правдой о войне это не назовешь, но это правда личного впечатления от нее. Солдат, ползущий на пулеметный огонь или сидевший по пояс в воде в затопленной траншее, знал лишь одно: с ним происходит что-то ужасное, чему противиться он бессилен. Из этого чувства беспомощности и непонимания хорошая книга родится скорее, чем из претенциозного убеждения, будто человеку ведомо все происходящее и даже его последствия. Что касается книг, созданных непосредственно в ходе войны, то лучшие из них принадлежат перу тех, кто попросту отвернулся от всего, стараясь не замечать, что идет война. Э. М. Форстер пишет, что, читая в 1917 году «Пруфрока» и другие ранние стихи Элиота, был ободрен тем, что в такое время ему попались стихи, «свободные от всего, поглощавшего внимание общества»: «В них говорилось об отвращении и неуверенности, переживаемых вот этим человеком, о слабых, несовершенных и оттого живых людях… Это был протест, негромогласный, но подлинный именно из-за своей слабости… Тот, кто сумел, как бы позабыв обо всем, сетовать на повадки дам в гостиных, сберег в себе крупицу самоуважения, он сохранил то, что принадлежит всему человечеству».
Хорошо сказано. В своей книге, к которой я уже обращался, Макнис цитирует это место и довольно самоуверенно продолжает: «Спустя десять лет поэты протестовали уже не столь негромогласно, а принадлежащее человечеству охраняли по-другому… Созерцание мира, от которого остались одни обломки, приелось, и преемники Элиота стремились собрать его воедино».
Подобные замечания рассыпаны по всей книге Макниса. Он пытается убедить нас, что «преемники» Элиота (то есть сам Макнис и его друзья) «протестовали» с большей результативностью, чем Элиот в его «Пруфроке», появившемся в тот момент, когда армии союзников штурмовали линию Гинденбурга. Не знаю уж, где искать свидетельства эффекта, который возымели эти «протесты». Но контраст между замечаниями Форстера и Макниса вбирает в себя все различие между человеком, который знает, чем была та война, и тем, кто едва помнит ее. Правда состоит в том, что в 1917 году думающий, чувствующий человек не мог сделать ничего, кроме как оставаться, насколько возможно, человеком. И жесты, свидетельствующие о беспомощности, даже о беспечности, помогали этому всего лучше. Если бы я был солдатом на мировой войне, я предпочел бы «Пруфрока» «Первым ста тысячам» или «Письмам к парням в окопах» Горацио Боттомли. У меня, как и у Форстера, было бы такое чувство, что, именно оставаясь в стороне и не порывая с предвоенной жизнью, Элиот сохраняет принадлежащее человечеству. Каким облегчением было бы в такое время прочесть о треволнениях стареющего интеллектуала, у которого наметилась плешина на макушке! После муштры с примкнутыми штыками, после бомб, продуктовых очередей, вербовочных плакатов – человеческий голос! Что за облегчение!
Но если на то пошло, война 1914–1918 годов была всего лишь кульминацией практически непрерывного кризиса. Сегодня нам и без войны дано ощутить распад общества и растущую беспомощность тех, кто сохранил человеческое достоинство. Поэтому дух пассивности и неучастия, которым проникнуто творчество Генри Миллера, кажется мне оправданным. Независимо от того, отражает ли он, что людям следует чувствовать, он, вероятно, близок к тому, что они чувствуют в действительности. Опять человеческий голос, который дошел до нас сквозь разрывы бомб, дружелюбный голос американца, «свободный от всего, поглощающего внимание общества». Никаких назиданий, одна субъективная правда. Скорее всего лишь так и можно даже сейчас написать хороший роман. Такой роман не обязательно будет поучительным, но это будет достойное и запоминающееся чтение.
Пока я писал это эссе, в Европе вновь разразилась война. Либо она растянется на несколько лет и не оставит от западной цивилизации камня на камне, либо прервется, не принеся определенного результата и угрожая новой войной, которая покончит со всеми раз и навсегда. Но война – всего лишь «мир более сильными средствами». Совершенно очевидно, что на наших глазах независимо от войны рушится «снисходительный капитализм» и вся либерально-христианская культура. До последнего времени последствия этого явления трудно было предвидеть, поскольку все воображали, что социализм сохранит и даже упрочит либеральную атмосферу. Теперь же растет осознание того, насколько ошибочны были эти представления. Почти несомненно, что мы вступаем в эру тоталитарных диктатур, в эпоху, когда свободная мысль сначала станет смертельным грехом, а потом – бессмысленной абстракцией. Независимая личность будет насильственно лишена прав на существование. А это означает, что литература в том виде, как мы ее знаем, обречена – по крайней мере, на время. Либеральной литературе приходит конец, а тоталитарная литература еще не возникла, да и вряд ли ее можно себе вообразить. Что до писателя, то он восседает на тающей льдине; он не более чем анахронизм, пережиток буржуазной эпохи, приговоренный, как гиппопотам, к неминуемому вымиранию. Миллер представляется мне незаурядным человеком в том смысле, что он разглядел и провозгласил эту неминуемость задолго до своих современников, более того – во времена, когда многие трубили о возрождении культуры. Несколькими годами ранее Уиндхэм Льюис сказал, что история английского языка в главных разделах уже написана, но он объяснил это другими, довольно тривиальными причинами. Отныне же фундаментальным обстоятельством для писателя становится тот факт, что этот мир создан не для писателей. Это не значит, что писателю не дано помогать становлению нового общества, только делать это он будет не как писатель. Ведь как писатель он остается либералом, а происходит не что иное, как крушение либерализма. И вероятно, что в годы, еще оставшиеся для свободной речи, всякий достойный внимания роман так или иначе будет создаваться в духе Миллера, – я подразумеваю не стилистику, не темы, а мироощущение автора. Предстоит возврат к пассивному созерцанию, только пассивность эта будет более осознанной, чем прежде. Прогресс, реакция – то и другое оказалось сплошным надувательством. И не остается, наверное, ничего, кроме квиетизма – способа защититься от кошмарной реальности простым подчинением ей. Забирайтесь во чрево кита – или признайте, что вы и так в нем находитесь (ведь так оно и есть). Отдайтесь на волю процессов, происходящих в мире, откажитесь от борьбы с ними или от притворной уверенности, что они вам подвластны; просто примите их, живите ими и запечатлевайте. Такова, видимо, формула, которой отныне будет следовать всякий чуткий к окружающему миру романист. Очень трудно вообразить сегодня более позитивный, конструктивный роман, при этом создающий ощущение эмоциональной подлинности.
Не хочу ли я этим сказать, что Миллер великий писатель, новая надежда англоязычной прозы? Вовсе нет. Сам Миллер никогда бы не притязал на подобный статус, даже не желал бы его. В том, что он будет писать впредь, сомнений нет: тот, кто начал писать, бросить перо уже бессилен, а кроме того, ему близки немало писателей примерно того же направления: Лоуренс Даррелл, Майкл Френкел и другие – вот-вот можно будет заговорить о «школе». Сам же Миллер представляется мне писателем одной книги. Думаю, рано или поздно он докатится до полной невнятицы или шарлатанства – в последнее время я вижу у него признаки и того и другого. Его последнюю книгу «Тропик Козерога» я даже не прочел. Не потому, что не захотел, а потому, что полиции и таможне пока удается охранить меня от нее. Но я удивлюсь, если она окажется под стать «Тропику Рака» или первым главам «Черной весны». Подобно многим другим романистам, пишущим на автобиографическом материале, ему было предназначено создать одну хорошую книгу, что и сделано. Памятуя, какой была проза 30-х годов, это что-то да значит.
Книги Миллера печатает издательство «Обелиск Пресс» в Париже. Что станет с издательством теперь, когда идет война и его главы Джека Катейна уже нет в живых, я не знаю, но книги, во всяком случае, раздобыть пока что можно. Я искренне советую тем, кто их еще не знает, прочесть хотя бы «Тропик Рака». Проявив изобретательность или чуть-чуть переплатив, вы сможете им обзавестись; и даже если какие-то места вызовут у вас отвращение, книга останется у вас в памяти. Это значительная книга, но не в том смысле, в каком обычно употребляют это слово. Как правило, романы называют значительными, если они содержат «страшные обвинения» или новые приемы письма. К «Тропику Рака» не применимо ни то ни другое. Его значительность – в том, что этот роман – симптом времени. Миллер, по-моему, единственный сколько-нибудь крупный, наделенный воображением прозаик из всех, кого дали в последние годы миру народы, говорящие по-английски. Даже если мне возразят, что я переоцениваю его, нельзя не признать, что Миллер неординарный писатель, достойный серьезного внимания; вообще же это совершенно негативный, неконструктивный, аморальный писатель, современный Иона, пассивно приемлющий зло, этакий Уитмен, прогуливающийся среди трупов. И одно это куда важнее, чем то обстоятельство, что в Англии выпускается по пять тысяч романов в год, из которых 4900 ровным счетом ничего не стоят. Это свидетельство того, что настоящая литература не может существовать, пока корчащийся в муках мир не примет нового обличья.