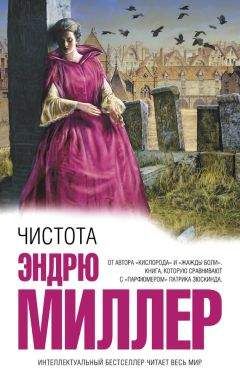Заложив страницу соломинкой, он закрывает книгу, вертит в руках медный циркуль. Один Господь ведает, куда запропастилась Мари. Придется поговорить с ней завтра. Больше ждать он не намерен.
Он снимает башмаки и фисташковые кюлоты. Он удивлен и слегка смущен, обнаружив, что у него эрекция. Довольно странный эффект после пьянства. Экое, оказывается, было возбуждающе чувственное вино! Он щупает свою мужскую плоть сквозь ткань рубашки. Может, жизнь тела и есть истинная жизнь? А его сознание – не более чем причудливо мерцающий свет, подобный огням святого Эльма, которые матросы видят на концах мачт посреди Атлантики? Он переваривает эту мысль (в которую вовсе не верит), держа свой член, как перо, которым можно было бы ее записать, но вдруг его заставляет вздрогнуть шорох в коридоре, медленное царапанье когтей о дерево – звук, к которому он уже начал привыкать. Он ждет. Вот опять. Он подходит к двери. Открывает. На него своими загадочными желтыми глазами снизу вверх смотрит Рагу, глазами, которые, кажется, сами обладают свойством светиться в темноте, подобно некоторым цветам. Наклонившись, он гладит животное по голове, чешет ему рваное ухо.
– Очень хорошо, друг мой. Только не вонзи мне в горло свои когти посреди ночи.
Тут он замолкает, услышав какое-то движение в другом конце неосвещенного коридора. Присматривается. Это Зигетта Моннар. Она в ночной рубашке, ее волосы расчесаны и, распущенные, свободно лежат на плечах.
– Кот, – говорит он.
– Рагу, – говорит она.
– Да.
Выпрямиться он не может, ибо все еще возбужден. Даже при столь тусклом освещении это невозможно скрыть.
– Должно быть, уже поздно, – говорит он.
– Надеюсь, вам у нас нравится, – говорит она.
– Уверен, мне здесь будет хорошо.
– Вы уже начали работать?
– Сделал кое-какие… приготовления.
Она кивает.
– Тогда доброй ночи, месье.
– Доброй ночи, мадемуазель.
Девушка поворачивается и проскальзывает в свою комнату. Жан-Батист стоит, чешет спину и смотрит на нелепую марионетку, наконец-то склонившуюся в поклоне у него между бедер. В изножье кровати Рагу вылизывает свои лапы. Жан-Батист убирает шлафрок и, сложив его, вешает на спинку стула. Задувает свечу, забирается в сыроватое пространство под одеялом. Потом…
– Кто ты? Я Жан-Батист Баратт. Откуда ты? Из Белема, это в Нормандии. Каково твое ремесло? Я инженер, учился в Школе мостов…
В некоторые ночи это звучит убедительнее, чем в другие.
По кладбищу Невинных идет девушка. В одной руке она несет курицу на веревке, обвязанной вокруг птичьих ног, в другой – плетеную корзину, где полно овощей, а еще лежит буханка черного хлеба и несколько фруктов. Как всегда, она была на рынке одной из первых. Ее легкая фигурка, густые золотисто-каштановые волосы хорошо знакомы служанкам, основным утренним покупательницам. У какой бы лавки ни остановилась девушка, продавцы никогда не посмеют ее обсчитать. И никогда ей не надо мять или щупать товар, нюхать его или надрезать, как это делают помощницы кухарок своими обветренными пальцами или костлявые матроны экономных хозяйств, живущие на грани бедности. Девушку обслуживают быстро, с уважением. Возможно, лоточники еще справятся о здоровье ее деда, поговорят о его деревенеющих суставах, но никто не станет задерживать эту покупательницу больше положенного. Не то чтобы ее не любят. Разве в Жанне есть что-то, что можно не любить? Но она рождена по ту сторону кладбищенской стены, в том месте, о котором сейчас, в последней четверти восемнадцатого столетия, многим не хотелось бы вспоминать. Она милая, симпатичная и воспитанная. Но еще это юная вестница смерти с золотисто-каштановыми волосами.
Утро холодное и удивительно ясное. Вот движется тень девушки, вот курица плавно скользит по подмерзшей траве рядом с нею, а сама девушка идет по тропинке – тропинке, протоптанной лишь ее ногами – от двери, что выходит на Рю-о-Фэр, до домика пономаря у церкви. Земля, по которой она ступает, местами неровная, в небольших углублениях, там, где осела чья-то могила, трава полегла. Невнимательный посетитель, тот, что не знает, куда идти, мог бы провалиться в одну из таких ям, провалиться по пояс или по плечи и даже полностью сгинуть. Но только не Жанна.
Она останавливается у креста проповедника, столпа из камня и железа, где некогда человек с безумным взором научился говорить с толпой. У его подножия растет кустик лунника с круглыми плоскими стручками, сияющими на солнце, словно монеты. Наклонившись, она срывает несколько стручков, отщипывает засохшие стебли и кладет стручки в свою корзину. Больше здесь почти ничего не растет. Земля изнемогла от работы. Правда, ее дед, вот уже пятьдесят лет служащий в церкви пономарем, рассказывал, что, когда он впервые оказался в этом месте, кладбище весной напоминало цветущий луг, а во времена его предшественника и пастор, и местные жители пасли здесь скот и косили на сено траву.
Она поднимает курицу. Поворачивает ее головой вниз, и та сразу же вновь впадает в оцепенение. Девушка идет по тропинке, держась самой кромки громадной церковной тени. Замешкавшись, прислушивается к городу за стеной, Парижу, к его утренним хлопотам, слышит гогот гусей в рыночных клетях, голос продавщицы креветок, нараспев зазывающей покупателей, младенцев, плачущих в доме кормилицы на Рю-де-ля-Ферроннери…
Еще маленькой – ей было девять, когда здесь погребли последнего усопшего, – она знала и звуки кладбища. «Тук-тук» каменщика, размеренные удары лопаты, колокольный звон. Теперь вокруг тишина – ибо какой шум могут производить девушка и старик? – если, конечно, ее не нарушит какой-нибудь непрошеный гость из тех, что забираются сюда ночью, перемахнув через стену. Два года назад зимой на рассвете произошла дуэль в углу той части кладбища, что выходит на Рю-де-ля-Ленжери. Из дома они с дедушкой ясно слышали звуки – отрывистое звяканье оружия и крики, положившие конец поединку. Дедушка подождал, пока совсем рассвело, и только тогда вышел. От дуэлянтов остались лишь примятая трава и оторванный кусок рубахи. Весь в крови.
А еще сюда приходят любовники: она видела почти все, чем они занимаются. Как раз в этом августе под подернутой дымкой желтой луной она наблюдала за юношей – судя по фигуре, одним из носильщиков – и девушкой, хорошенькой, как королева эльфов, и не старше ее самой. Когда парень делал это с девушкой, та мяукала, точно кошка. И они делали это не один, а три или четыре раза, прервавшись лишь, чтобы посмотреть на луну и выпить вина из бутылки, которую принесли с собою и которую она отыскала на следующий день. Бутылка стояла, прислоненная к могиле Пейронов, послужившей парочке постелью. В ней оставалось чуть-чуть вина, и Жанна, сделав глоток, почувствовала, как капли покатились по горлу. Потом она спрятала бутылку в ямку под надгробием.
Иногда – редко – она видит старого настоятеля в очках, похожего на большую бескрылую летучую мышь, что появляется лишь в сумерках. А иногда – рыжего музыканта, который выходит облегчиться, а когда встречает ее, всегда машет рукой. Жанне хотелось бы поближе посмотреть на его руки. Должно быть, они особенные, ведь только особенные пальцы могут производить такие звуки, такую музыку, которая раз или два в месяц просачивается сквозь черные стены церкви и заставляет ее сердце учащенно биться.
Перед домом она подставляет лицо осеннему солнцу, чтобы оно поделилось с ней своим теплом, потом, возрожденная и обласканная его прикосновением, входит внутрь. Дедушка на кухне. Приподняв, она протягивает ему курицу, чтобы он мог пощупать перья. Дед одобрительно мычит в ответ, затем указывает подбородком на комнату рядом с кухней, кабинет пономаря, побеленный, с узким арочным окном, где на провисших полках выстроилось в ряд невесть сколько церковных книг, покрытых пылью, мышиным пометом, невероятными разводами от сырости, похожими на мраморные прожилки. У письменного стола стоит человек, а перед ним лежит открытая книга. Он смотрит в нее внимательно, переворачивает страницу, прижимает к лицу какой-то лоскут, закрывает глаза и глубоко вдыхает, потом убирает лоскут в карман. Пальто его расстегнуто, и под ним она видит часть костюма, зеленого, точно сердцевина кустика салата.
Курица кудахчет. Человек оборачивается к кухне. Кивает девушке. И когда она ничего не отвечает, называет себя.
– Просматриваю записи, – поясняет он.
– Вижу, – отвечает она.
Снова кивнув, он возвращается к книге.
– Мы можем предложить вам вина, месье, – говорит она, – и есть немного кофе.
Он снова прикладывает к лицу лоскут и трясет головой. Лоскут смочен духами, запах которых кажется ей оскорбительно резким. Дедушка выносит курицу во двор.
– Вы чужестранец? – спрашивает она.
– Я из Нормандии, – отвечает он.
Он проводит пальцем по аккуратно выведенной чернилами колонке фамилий. Осенью 1610 года один за другим упокоились несколько членов семейства Фласелей. Семеро меньше чем за месяц.