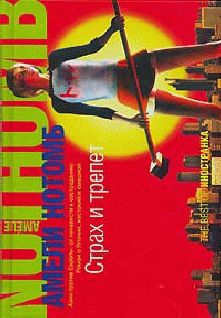– А кроме этого?
Больше я почти ничего не добилась. И позвонила Ринри:
– Ну, как она тебе понравилась?
– Худая, – сказал он.
Тут тоже я почти ничего не добилась. Отвергнув мысль о сговоре, я возмущалась про себя: как примитивно они мыслят! Ну да, оба худые, и что? Неужели ничего поинтереснее сказать не могли? Для меня важно было совсем другое: красота и волшебное очарование моей сестры, необычность и утонченность Ринри.
Никакой враждебности в их взаимной оценке не было: они сразу друг другу понравились. Со временем я поняла, что по-своему они были правы. Если окинуть взглядом мое прошлое, то выясняется, что все люди, что-то значившие для меня, были худыми. Разумеется, это не главная их черта, зато единственная, которая их объединяет. Наверняка неспроста.
Конечно, мне встречалось на жизненном пути множество худых мужчин и женщин, никак не повлиявших на мою судьбу. Вдобавок я провела несколько лет в Бангладеш, где основная масса населения – ходячие скелеты. Одна человеческая жизнь не может вместить стольких людей, даже совсем бестелесных. Но на смертном одре перед моим взором пройдет череда очень худых теней.
И хотя у меня нет этому объяснения, подозреваю, что таков мой выбор, осознанный или нет. В моих романах те, кто оказывается предметом любви, всегда необычайно худы. Но не надо делать вывод, что одной худобы мне достаточно. Года два назад некая юная идиотка, чье имя я утаю, предложила мне себя в качестве, о котором я предпочитаю не догадываться. Видя мое изумление, эта дуреха повертелась передо мной, чтобы продемонстрировать свое изящество, и заявила, клянусь:
– Вы не находите, что я похожа на одну из ваших героинь?
Итак, лето 1989 года. Я дала своему худому ухажеру отставку на месяц: мы с Жюльеттой отправились в паломничество. Поезд доставил нас в Кансай. Пейзаж был все так же прекрасен. Но никому не пожелаю такой поездки. Чудо, что я вообще пережила этот шок. Не будь рядом моей сестры, я никогда не отважилась бы вернуться в места нашего детства. Не будь рядом моей сестры, я умерла бы от разрыва сердца в поселке Сюкугава.
Пятого августа Жюльетта улетела в Бельгию. Я несколько часов выла, как зверь, запершись у себя в квартире. Когда грудь моя исторгла все вопли, которые там накопились, я позвонила Ринри. Он благородно скрыл свою радость, зная мою печаль. За мной приехал белый «мерседес».
Он повез меня в парк Сироганэ.
– Последний раз мы были здесь с Рикой, – сказала я. – Ты не воспользовался моим отсутствием, чтобы навестить ее?
– Нет. Она там совсем другая. Она играет роль.
– Чем же ты занимался все это время?
– Читал по-французски книгу о тамплиерах, – ответил он, оживившись.
– Хорошо.
– Я решил стать одним из них.
– Не поняла.
– Я хочу стать тамплиером.
Весь вечер я объясняла Ринри несвоевременность такого шага. В Европе, при Филиппе Красивом, он имел бы высокий смысл. В Токио в 1989 году для будущего директора ювелирной фирмы это был полный абсурд.
– Хочу быть рыцарем Храма, – упрямился огорченный Ринри. – Уверен, что в Японии есть храмовники.
– Не сомневаюсь, хотя бы потому, что в вашей стране есть все. Твои соотечественники так любознательны, что, чем бы человек ни заинтересовался, он всегда найдет, с кем разделить свою страсть.
– Почему же мне нельзя стать тамплиером?
– Сейчас это что-то вроде секты.
Он вздохнул, признавая поражение.
– А не пойти ли нам поесть китайской лапши? – предложил будущий тамплиер.
– Отличная мысль.
Пока мы ели, я пыталась пересказать ему «Проклятых королей» Дрюона. Труднее всего оказалось объяснить, как выбирали папу.
– И ничего не изменилось по сей день. По-прежнему созывают конклав, кардиналы сидят взаперти…
Я так увлеклась, что не опустила ни одной детали. Он слушал меня, втягивая лапшу. Завершив рассказ, я спросила:
– А что вообще японцы думают о папе?
Обычно, когда я задавала Ринри вопрос, он, прежде чем ответить, некоторое время размышлял. Но тут, ни на миг не задумываясь, объявил:
– Ничего.
Он сказал это таким будничным тоном, что я расхохоталась. В его голосе не было вызова, Ринри просто констатировал факт.
С тех пор, когда папу показывают по телевизору, я говорю себе: «Вот человек, о котором сто восемьдесят пять миллионов японцев не думают ровно ничего» – и это всякий раз веселит меня.
Впрочем, учитывая любознательность японцев, их внимание к особенностям западной жизни, утверждение Ринри, надо полагать, имеет множество исключений. Но все-таки я, наверно, была права, отговорив вступать в орден тамплиеров юношу, которого совершенно не интересует его заклятый враг.
* * *
– Завтра я повезу тебя в горы, – сообщил мне Ринри по телефону. – Надень походную обувь.
– Может, не стоит? – сказала я.
– Почему? Ты не любишь горы?
– Я обожаю горы.
– Тогда все, решено, – отрезал он, равнодушный к парадоксам моей натуры.
Положив трубку, я почувствовала, что меня лихорадит: горы всех стран мира, и уж тем более японские, притягивали меня с пугающей силой. Я знала, однако, что затея эта рискованная – после полутора тысяч метров в меня вселяется кто-то другой.
Одиннадцатого августа белый «мерседес» распахнул передо мной дверь.
– Куда мы едем?
– Увидишь.
Хотя иероглифы давались мне с трудом, я умела разбирать названия населенных пунктов. Этот божий дар очень пригодился мне в странствиях по Японии. И вот, после нескольких часов пути, мои догадки подтвердились.
– Гора Фудзи!
Это была моя мечта. Считается, что каждый обитатель японских островов должен хоть раз в жизни подняться на гору Фудзи, иначе он просто не заслуживает высокого звания японца. Я, всегда страстно желавшая быть японкой, увидела в этом подъеме гениальную лазейку для решения своей национальной проблемы. Тем более что горы – моя территория, моя стихия.
Мы оставили «мерседес» в гигантском паркинге на площадке из лавы – выше никакой транспорт не допускался. Меня удивило количество прибывавших автобусов, я и не знала, сколь велика потребность людей заслужить звание настоящих японцев. И это вам не бюрократическая формальность – тут надо подняться пешком на 3776 метров над уровнем моря, причем за один день, потому что только у подножия и на вершине есть места для ночевки. Между тем в толпе, сгрудившейся у начала подъема, были старики, дети, мамаши с грудными младенцами, я даже заметила одну беременную женщину месяце на восьмом. Недаром в слове «японец» есть героический оттенок.
Я поглядела вверх: так вот он какой, вулкан Фудзи. Наконец я нашла точку, откуда он не выглядит грандиозным, поскольку от подножия его попросту не видно. Ведь этот необыкновенный фантом виден практически отовсюду, так что иногда он казался мне голограммой. Невозможно сосчитать, сколько есть мест на Хонсю, откуда открывается великолепная панорама Фудзи, легче сосчитать места, откуда она не открывается. Если бы националисты вздумали создать общеяпонский символ, им следовало бы построить Фудзи. На него невозможно смотреть без священного трепета и покалывания в глазах: он слишком красив, слишком совершенен, слишком идеален.
Везде, кроме подножия, где он выглядит, как любая другая гора, бесформенным вздутием рельефа.
У Ринри имелось специальное снаряжение: горные ботинки, комбинезон для космических полетов, альпеншток. Он с жалостью окинул взглядом мои джинсы и кроссовки, но от комментариев удержался, наверно, чтобы не сыпать мне соль на раны.
– Пошли? – сказал он.
Только этого я и ждала, чтобы дать волю своим ногам, и они мгновенно понесли меня вперед. Стоял полдень – в природе и у меня в душе. Я шла наверх, радуясь, что идти еще так далеко. Первые полторы тысячи метров были самыми трудными: приходилось идти по рыхлой лаве, в которой вязли кроссовки. Как говорится, надо было очень хотеть. Хотели все. Вид стариков, вереницей поднимавшихся по склону, внушал невольное почтение.
Затем мы оказались на настоящей горе, с изумительно твердой землей, перемежающейся участками черного камня. Мы миновали отметку в 1500 метров, где происходит мое перерождение. Я подождала Ринри, который отстал от меня всего метров на двести, и назначила ему встречу на вершине.
Потом он сказал мне:
– Не понимаю, что дальше произошло. Ты просто исчезла.
Так оно и было. После полутора тысяч метров я исчезаю. Мое тело становится чистой энергией, и пока все недоумевают, куда я делась, ноги успевают унести меня так далеко, что я делаюсь невидимой. Эта способность есть не у меня одной, но я не знаю никого, в ком ее так трудно заподозрить, потому что с виду на Заратустру[19] я совершенно не похожа.
Однако именно в него я и превращаюсь. Меня вдруг подхватывает какая-то нечеловеческая сила, и я взмываю прямо к солнцу. В голове моей звучат божественные гимны – не славословие богам, а песнь обитателей Олимпа. Геракл – мой тщедушный младший братишка. Но это лишь греческая ветвь моего рода. Мы, маздеисты, – совсем другое дело.