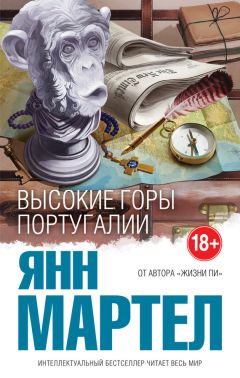Она решает поближе присмотреться к чудному незнакомцу.
Томаш наклоняется к автомобилю: его нещадно рвет. От кишок до горла – он один сжатый мускул, оказавшийся во власти малыша, который выжимает его, точно мокрую тряпку. Краем глаза он замечает на площади священника с удочкой в одной руке и тремя рыбинами на леске в другой.
Отец Абран замечает Марию Пассуш Каштру с озадаченным лицом; замечает новомодную карету – о таких он слыхал (но эта какая-то уж больно потрепанная); замечает рядом с нею перепачканного с ног до головы чужака, тяжело, порывисто глотающего воздух.
Томаш забирается в кабину. Ему хочется уехать прочь. Он ошеломленно глядит на рулевое колесо. Надо повернуть вправо, чтобы не наехать на стену по соседству. Но куда же, выражаясь технически, вращать рулевое колесо, которое он сжимает руками? Тоска, переполняющая его, мешает ответить на этот вопрос. В конце концов, рулевое колесо и в самом деле приводит его в полное замешательство. У него наворачиваются слезы. Он плачет, потому что ему совсем плохо. Потому что душа у него вконец опустошена и нет сил вести машину. Потому что дело его еще не закончено: ведь надо еще ехать обратно в Лиссабон. Он плачет, потому что немыт и небрит. Потому что он много дней и ночей провел в чужих краях, спал в автомобиле, дрожа от холода. Потому что потерял работу – и что теперь делать, как зарабатывать на жизнь? Он плачет, потому что нашел распятие и теперь ему больше нечего искать. Потому что он скучает по отцу. Потому что скучает по сынишке и по той, которую любит. Потому что он задавил насмерть малыша. Потому что, потому что, потому что…
Он плачет, как дитя, сдерживая дыхание, икая, – лицо его сплошь в слезах. Мы случайные твари. Вот и все, что мы есть, и нет у нас никого, кроме нас самих, – никакого высшего родства. Задолго до Дарвина какой-то священник, прозревший в безумии своем, повстречал четырех шимпанзе на заброшенном африканском острове, – и его вдруг осенило: мы вознесшиеся обезьяны, а не падшие ангелы. Томаша душит одиночество.
– Ты нужен мне, отец! – выкрикивает он.
Отец Абран бросает наземь рыболовные снасти и спешит на помощь жалкому чужаку.
Эузебью Лозора трижды не спеша читает «Отче наш». И следом за тем вдруг принимается возносить похвалы и мольбы. Мысли его путаются, но быстро обретают стройность, фразы замирают на полуслове, но в конце концов завершаются. Он славит Господа, а потом свою жену перед Господом. Он просит Господа благословить ее и их детей. Он просит у Господа непрестанной помощи и защиты. Затем, будучи врачом, и к тому же патологоанатомом, имеющим дело с плотью, а также верующим, полагающимся на обетования Господни, он, наверное, раз двадцать кряду повторяет слова «Тело Христово», после чего встает с колен и возвращается к рабочему столу.
Он считает себя добросовестным практиком. Внимательно просматривает написанный абзац, точно фермер – свежераспаханную борозду, проверяя качество проделанной работы, ибо ему хорошо известно, что борозда даст урожай, а в его случае – принесет плоды осмысления. Насколько написанное отвечает его высоким требованиям? Насколько все изложено правильно, ясно, кратко и законченно?
Он поглощен своей работой. Сегодня последний день декабря 1938 года – в сущности, последние часы. Промозглое Рождество отметили как подобает, иначе в эти праздничные дни он не пребывал бы в добром расположении духа. Стол его завален бумагами – одни лежат под рукой, другие аккуратно, осмысленно сложены в разные стопки, по степени важности, а третьи готовы отправиться в архив.
В кабинете тихо, как и в коридоре снаружи. В Брагансе едва ли наберется тридцать тысяч жителей, но здешняя больница Сан-Франсишку, где он служит главным патологоанатомом, считается крупнейшей в Алту-Дору[27]. В других больничных отделениях вот-вот зажжется свет – суетливо и шумно станет везде: в отделении неотложной помощи, куда привозят людей, которые кричат и плачут, в палатах, где больные то и дело вызывают звонком сиделок и удерживают их неумолчной болтовней, – но здесь, в патологоанатомическом отделении, в больничном подвале, под всеми этими оживленными этажами, царит тишина, как и во всех других патологоанатомических отделениях. И ему хотелось бы, чтобы так было всегда.
Добавив еще три слова и зачеркнув одно из них, он дописывает абзац. И напоследок его перечитывает. По его личному убеждению, патологоанатомы – единственные врачи, умеющие писать. Все же остальные ярые последователи Гиппократа ставят себе в заслугу только выздоровление больного, а все, что они пишут – диагнозы, рецепты, медицинские предписания, – представляет для них лишь поверхностный интерес. Все эти врачи-реставраторы, как только видят, что больной встал на ноги, тут же берутся за следующего пациента. И неудивительно, что каждый божий день пациенты вылетают из больницы, точно пробки. Это всего лишь легкая травма, незначительное обострение такой-то или такой-то болезни, говорят они себе. Но он, Эузебью, с куда большим внимание относится к тем, кто некогда был серьезно болен. Он подмечает ковыляющую походку пациентов, покидающих больницу, их всклоченные волосы безнадежно униженный вид и тихий ужас в глазах. Они с неотвратимой ясностью понимают, что ждет их в один прекрасный день. Существует множество причин, по которым угасает маленькая свечка жизни. Холодный ветер дует вслед всем нам. И когда приносят свечной огарок, с почерневшим фитилем и полосками оплавленного воска по бокам, его принимает штатный врач – по крайней мере, в больнице Сан-Франсишку, в португальской Брагансе, – и это либо он сам, либо его коллега, доктор Жозе Отавью.
Каждое мертвое тело – что книга с историей, которую можно рассказать: каждый орган – глава, и все главы объединены в общее повествование. И профессиональная обязанность Эузебью заключается в том, чтобы читать эти повести, переворачивая скальпелем страницу за страницей, и в конце писать изложение по прочитанному. В изложении он должен точно описать то, что прочел в теле. Это смахивает на своего рода дотошное стихосложение. Любопытство охватывает его, как всякого читателя. Что сталось с этим телом? Как? Почему? Он ищет коварную, неотвратимую причину небытия, застигающую врасплох каждого из нас. Что такое смерть? Вот тело – но это всего лишь результат, а не самая суть. Когда он обнаруживает чрезмерно увеличенный лимфатический узел или атипично сморщенную ткань, он понимает, что напал на след смерти. Занятная, однако, штука: смерть нередко приходит замаскированной под жизнь – в виде аномально избыточного образования клеток, или, подобно убийце, прежде чем улизнуть с места преступления, она оставляет улику – «дымящийся» пистолет в форме склеротического тромба в артерии. Он всегда натыкается на результат воздействия смерти, едва сама смерть успевает свернуть за угол и скрыться за ним, прошелестев краем плаща.
Он откидывается в кресле и потягивается. Кресло скрипит, словно старые кости. На лабораторном столике, у стены, где стоит микроскоп, он замечает папку. Что она там делает? И что это там, на полу под столом – еще одна папка? А стакан на его столе совершенно сухой и собирает пыль. Он безусловно верит, что гидратация – процесс важный. Жизнь – это влага. Надо дочиста протереть стакан и наполнить его свежей холодной водой. Он качает головой. Довольно рассеянных мыслей! Ему много чего надо сохранить, и не только в растворах и мазках, но и в словах. В каждом случае необходимо свести воедино клиническую карту пациента, результаты вскрытия, гистологические пробы из желудка и составить общую картину. Надобно подналечь. «Сосредоточься, приятель, сосредоточься! Подбери нужные слова!» Кроме того, нужно еще дописать и другие изложения. Одно он отложил. На ночь. Раздавленное тело, пролежавшее несколько дней наполовину на воздухе, наполовину в реке, вздувшееся, с явными признаками разложения.
Услышав громкий стук в дверь, он вздрагивает. Смотрит на часы. Половина одиннадцатого ночи.
– Войдите! – приглашает он с отчаянием в голосе, вырвавшимся, точно струя пара из чайника.
Никто не входит. Но за крепкой деревянной дверью он ощущает чье-то тягостное присутствие.
– Говорю же, войдите! – снова приглашает он.
Дверная ручка по-прежнему даже не шелохнется – ни малейшего скрипа. Патологическая анатомия не требует медицинских навыков, во многом зависящих от срочных обстоятельств. Больные, вернее их биопсические пробы, почти всегда могут подождать до следующего утра, а мертвецам терпения и вовсе не занимать, да и больничный регистратор вряд ли пожаловал бы с каким-нибудь неотложным делом. К тому же кабинеты патологоанатомов расположены в таких местах, куда обычному посетителю попасть не так-то просто. Тогда кого же занесло в больничный подвал с желанием проведать его в такой час – в канун Нового года?