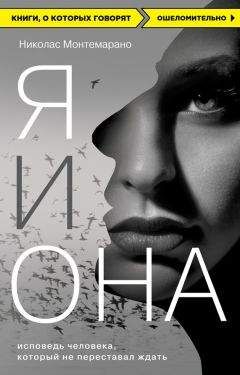Слишком поздно для обеда, мы заказываем чай с собой. Сэм спрашивает официантку – светлые волосы, колечко в носу, беременная, – не подскажет ли она нам, где находится Грин-стрит.
– Грин-стрит… – повторяет женщина и возводит глаза к потолку, словно ожидая божественного ответа.
– Грин-стрит, – снова повторяет она. – Кажется, я такой не знаю, но это может быть в той части города, которая мне незнакома. Эй, Митч! – кричит она, и из кухни выходит повар, молодой человек в толстовке с капюшоном, с неряшливыми каштановыми волосами, на его кисти вытатуировано какое-то слово. – Где это – Грин-стрит? – спрашивает официантка. Он подходит ближе, и я вижу это слово, и думаю, что, может быть, мы все же попали туда, куда надо, но он говорит:
– Простите, никогда не слышал о Грин-стрит.
И тогда я вижу, что показавшееся мне Кэри – на самом деле Гэри ; может быть, его отец, или брат, или лучший друг, словом, дорогой покойник, которого Митч вспоминает всякий раз, переворачивая блинчик или принимаясь мыть руки.
– Не подскажете нам, где находится кладбище? – продолжает расспросы Сэм.
– Которое? – уточняет Митч.
– Ланкастерское кладбище.
– Это на восточной стороне, – машет он рукой. – Вы вообще знаете город?
– Нет.
– Налево, на Лайм-стрит, – говорит он. – Оно будет по правую сторону улицы. Не промахнетесь.
Небо светлеет, и я беспокоюсь, как там Ральф.
– По прогнозу должна быть страшная буря, – замечает официантка.
Гремит гром, официантка роняет стакан, и вот мы все оказываемся на полу, собирая осколки и кусочки.
– Вы сказали, Лайм-стрит, правильно? – уточняет Сэм. Она невнимательна, и я вижу, как она морщится – порезала палец.
– Черт! – восклицает официантка. – Прошу прощения.
– Вы не виноваты, – говорю я.
– Да я вообще неудачница, – говорит она. – Давайте, я соберу остальное.
– Это всего лишь маленький порез, – успокаивает ее Сэм. Она сжимает палец, пока на нем не расцветает капелька крови, потом слизывает ее.
– Говорю же вам, – повторяет официантка, – невезучая я.
– Вы сказали – Лайм-стрит, – повторяет Сэм.
– Около мили, – утвердительно кивает Митч. – Прямо перед больницей.
– Спасибо, спасибо вам огромное ! – говорит Сэм, будто он поведал ей тайну жизни, причину, по которой мы все здесь оказались, и будто это – добрая причина.
– Поосторожнее там, – напутствует нас официантка.
Мы бежим через улицу к машине, где Ральф скребет лапой стекло. Порыв ветра гонит вниз по улице газету и распластывает ее на боковой стене церкви.
В машине мы переводим дыхание. Сквозь ветровое стекло ничего не видно, несмотря на то, что дворники работают во всю мочь. Ральф бегает туда-сюда на заднем сиденье.
– Черт, – говорю я. – Я не взял с собой таблетки, которые даю ей во время грозы.
Сэм выводит машину на проезжую часть.
– В такую погоду нельзя никуда ехать.
– Ты же слышал, что он сказал – это близко.
– Я думал, мы ищем Грин-стрит.
– Нет никакой Грин-стрит. Лайм и есть зеленый!
– И что же мы будем делать, если найдем этот дом?
– Позвоним в дверь.
– Я не стану звонить в дом к незнакомым людям и спрашивать о Глории Фостер только потому, что твой умерший брат швырял в этот дом головки одуванчиков.
– Лучше не строить никаких планов, – говорит она.
– А что, если она действительно там? Что мы ей скажем?
– Полагаю, мы скажем «здравствуй».
Те немногие машины, которые я вижу через ветровое стекло, тормозят у обочин. Сэм продолжает ехать вперед. Пять лет назад я перестал бояться всего, кроме того, что мне придется дожить до конца остаток моей жизни, и поэтому идея об автомобильной аварии – еще одной – не должна была бы меня пугать. Но мой страх после аварии в Чилмарке вернулся.
Я по-прежнему гадаю, не был ли голос моего отца частью сна, вызванного физической травмой. Попыткой мозга справиться с клинической смертью, защитным механизмом тела против аннигиляции.
Может быть . Вот моя мантра – или я бы хотел, чтобы это было моей мантрой.
В течение последних пяти лет я веровал в неверие – пожимал плечами при мысли обо всем, чего не видел собственными глазами. Руководствовался собственными органами чувств. Почти как собака. Существо настоящего.
Может быть, это был сон. А может быть – и нет. Что так, что сяк, тебя там не было, так что я немного боюсь, что Сэм въедет в дерево.
Думаю, даже торнадо не помешал бы Сэм добраться до кладбища.
У меня мелькает эта мысль – и дождь превращается в град. Ледышки отскакивают от ветрового стекла. Ральф трясется на заднем сиденье, и не успеваю я обернуться, чтобы успокоить ее, как она прыгает на переднее сиденье, выбивая рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ральф бьет лапами мне в лицо, будто я – это дверь, через которую она хочет прорваться. Она то и дело прыгает с моих коленей назад, потом снова ко мне на колени. Она угодила лапой мне по ребрам, и я задыхаюсь от боли. Градины размером с мяч для гольфа лупят по ветровому стеклу, и оно идет трещинами. Сэм выправляет машину и давит на газ. Я не вижу, куда мы едем. Машину заносит поперек дороги на другую сторону, она идет юзом и замирает.
Она припаркована идеально, только развернута не в том направлении. Глядя через боковое стекло, я вижу ворота кладбища.
Я держусь за бок, делая короткие одышливые вдохи. Ральф царапает стекло и лает. Она никогда не понимала, что гроза снаружи, а не внутри. Сэм бьет ладонью по рулевому колесу, нажимает клаксон.
– Ты видишь, где мы? Я имею в виду, ты понимаешь?!
– Да, вижу.
– Ну, так почему же ты не взволнован так, как я?
– Я взволнован, – возражаю я. – Иисусе… глянь-ка!
– Прямо возле кладбища, – говорит она. – Я имею в виду, ты представляешь, каковы на это шансы?
– Да я не об этом говорю.
– Клянусь тебе, это не я вела машину. Ее вел кто-то другой.
– Послушай меня, – говорю я ей. – Ты видишь, что происходит?
День превратился в ночь. Ветер гнет деревья; толстый сук обрушивается позади машины. Кладбищенские ворота широко распахиваются, с лязгом захлопываются, потом снова распахиваются.
Ральф ложится, тяжело дыша. Полагаю, страх мог бы убить собаку ее возраста. Вылезаю из машины и открываю заднюю дверь. Град клюет мое лицо, грудь. Я бегу в единственном направлении, в котором ветер позволяет мне бежать; Ральф следует за мной. Я слышу, как Сэм вопит позади нас. Я подбегаю к ближайшему дому, перевожу дух на крыльце. Вдоль улицы ветер гонит мусор. Сэм бежит к нам, тщетно пытаясь прикрыть голову от града руками.
– Какого черта! – восклицает она, когда добегает до порога.
– Похоже, ты была права.
– Я тебя не слышу!
– Ты была права! – кричу я сквозь ветер. – Лучше всего – не иметь никаких планов.
– Что?!
– Никакого плана!
В дверях появляется молодой мужчина. Невысокий и мускулистый, с бритой головой. Хлопковые голубые брюки и рубаха, рабочие ботинки, униформа – сантехник или электрик. Он машет рукой, подавая нам знак войти внутрь.
– Поторопитесь, – говорит он. – Все уже в подвале.
Мы пробегаем через маленькую гостиную – кроссовки и туфли на полу, детские книжки, игрушки – и столовую, где шесть стульев стоят в кружок, вот только стола нет, обстановка больше подходит для сеанса групповой терапии, чем для ужина.
Через дверь и вниз по ступенькам в подвал, освещенный единственной висящей на проводе лампочкой. Внизу еще три человека – две женщины и девочка.
Когда я выпускаю поводок, Ральф бежит к девочке, которая сидит на полу в задней части подвала, окруженная коробками с припасами, пыльными журнальными столиками и старыми банками с краской. Ей лет пять, может быть, шесть, и ее темные волосы убраны в хвостики. Она зажмуривает глаза и сжимает губы, а Ральф вылизывает ей лицо.
– Нашел их на пороге, – поясняет мужчина. – Там, наверху, вся преисподняя с цепи сорвалась.
– Я Эрик, – представляюсь я.
Мужчина пожимает мне руку.
– Джей, – говорит он. Потом здоровается с Сэм.
– Сэм, – говорит она.
Мы машем руками женщинам, и они машут нам в ответ.
– Это моя жена, Эвелин, – он указывает на женщину помоложе; та сидит на оранжевом складном стульчике, курит. Мешковатые джинсы, белые кроссовки, свитер Пенсильванского университета. Она делает затяжку, снова помахивает нам рукой.
– Это наша дочь, – продолжает Джей. – А это – моя мать.
– Добро пожаловать в наш прекрасный дом, – говорит его мать. – Будем надеяться, что и завтра он будет по-прежнему стоять на том же месте, – она смеется, издает громкое внезапное «ха». Это полная женщина лет за пятьдесят, у нее седые волосы, короткие и стоящие торчком. Она спрашивает, как зовут Ральф, и когда я называю ее кличку, говорит:
– Сюда, Ральф! Поди сюда, мальчик!
– На самом деле, Ральф – девочка.
– И как же с ней такое приключилось? – спрашивает ее сын.