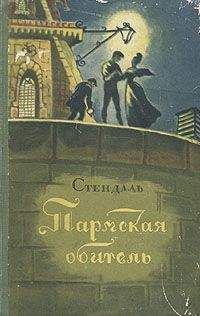Ознакомительная версия.
Месут, один из студентов училища имамов-хатибов, которых насильно привезли в Национальный театр на военных грузовиках (тот, который был против, чтобы правоверных и атеистов хоронили на одном кладбище), спустя много лет сказал мне, что чувствовал, как к Сунаю что-то притягивало. Возможно, он мог признаться в этом, потому что прежде находился в одной маленькой исламистской группировке, четыре года совершавшей в Эрзуруме акции с применением оружия, а после того, как разочаровался во всем этом, вернулся в Карс и начал работать в чайной. По его словам, существовало что-то сложно объяснимое, притягивавшее студентов училища имамов-хатибов к Сунаю. Возможно, дело было в том, что Сунай обладал абсолютной властью, которой они хотели подчиняться. Или же в том, что он установил запреты и тем самым «спас» их от опасных занятий, таких как организация восстания. «После военных переворотов все на самом деле втайне радуются», – сказал он мне. С его точки зрения, на молодых людей произвело впечатление то, что он, обладающий такой властью, вышел на сцену и со всей искренностью отдал себя зрителям.
Много лет спустя, когда я смотрел видеозапись того вечера, я тоже почувствовал, что в зале забыли о противостоянии отцов и детей, представителей власти и мятежников и все в глубоком молчании погрузились в свои полные страхов воспоминания и фантазии, и я ощутил существование этого чарующего чувства общности, которое могут понять только те, кто живет в государствах, слишком увлеченных национальной идеей и держащих своих граждан в ежовых рукавицах. Благодаря Сунаю в зале словно не осталось «чужих», все были безнадежно привязаны друг к другу общей историей.
Это чувство нарушала Кадифе, к присутствию которой на сцене жители Карса никак не могли привыкнуть. Операторы, снимавшие спектакль, должно быть, тоже это почувствовали, и поэтому в напряженные моменты они, сфокусировавшись на Сунае, совершенно обходили вниманием Кадифе, и зрители Карса могли ее видеть, только когда она ассистировала тому, кто двигал действие, подобно служанкам в бульварных комедиях. Между тем зрители очень интересовались поведением Кадифе, потому что с полудня объявлялось, что во время вечернего спектакля она откроет голову. Ходило очень много разговоров о том, что Кадифе сделает это под давлением военных, что она не выйдет на сцену, и другие подобные слухи, а те, кто имел представление о борьбе девушек в платках, но никогда не слышал ее имени, узнали о Кадифе лишь пару часов назад. Поэтому, хотя она и появилась на сцене изначально с непорочным видом и на ней было длинное красное платье, то, что она появилась с покрытой головой, сначала вызвало разочарование.
Итак, все чего-то ожидали от Кадифе, и на двадцатой минуте пьесы, после одного диалога с Сунаем, кое-что стало проясняться: когда они остались на сцене одни, Сунай спросил у нее, решила она или нет, и сказал:
– По-моему, это недопустимо, чтобы ты, рассердившись на других, убила себя.
Кадифе сказала:
– Мужчины в этом городе убивают друг друга как животные, и если они говорят, что делают это ради счастья города, то кому какое дело до того, что я хочу убить себя? – и улизнула, словно убегая от Фунды Эсер, появившейся на сцене.
Спустя четыре года, когда я слушал от всех, с кем мог поговорить, о событиях, происшедших в Карсе тем вечером, когда с часами в руке по минутам пытался расписать все события, я вычислил, что, когда Кадифе произнесла это со сцены, Ладживерт видел ее в последний раз. Согласно тому, что рассказали мне о нападении на Ладживерта соседи и продолжавшие работать в Карсе сотрудники Управления безопасности, когда в дверь постучали, Ладживерт и Ханде смотрели телевизор. Согласно официальному рапорту Ладживерт, увидев перед собой сотрудников Управления безопасности и военных, бросился внутрь, схватил оружие и начал стрелять; а по рассказам некоторых соседей и молодых исламистов, для которых через короткое время он стал легендой, он закричал: «Не стреляйте!» – и попытался спасти Ханде, но влетевшая в квартиру группа во главе с З. Демирколом за минуту изрешетила пулями не только Ладживерта и Ханде, но и всю квартиру. Несмотря на сильный шум, никто, кроме нескольких любопытных детей из соседних домов, не заинтересовался случившимся. Так было не только потому, что в то время жители Карса привыкли к таким нападениям по ночам, но также и потому, что в тот момент никто в городе не мог интересоваться ничем, кроме передававшегося из Национального театра спектакля. Все улицы были пусты, все ставни закрыты, а чайные дома, кроме нескольких, не работали.
Сунай знал, что все глаза в городе прикованы к нему, и это придавало ему сверхъестественную уверенность и силу. Поскольку Кадифе понимала, что получит на сцене только то место, которое выделил ей Сунай, она приближалась к нему все больше и чувствовала: то, что она хотела сделать, сможет осуществиться, только если она воспользуется удобным моментом, который Сунай, возможно, ей предоставит. Я не знаю, о чем она думала, потому что впоследствии, в отличие от своей старшей сестры, Кадифе избегала разговаривать со мной о тех днях. Жители Карса, осознавшие решимость Кадифе покончить с собой и открыть голову, с этого момента и в течение следующих сорока минут постепенно начали ею восхищаться. Кадифе постепенно выходила на первый план, и спектакль превращался в тяжелую драму, полную нравоучительного и отчасти раздраженного возмущения Суная и Фунды Эсер. Зрители ощутили, что Кадифе играет храбрую девушку, готовую на все из-за того, что она не устрашилась притеснений со стороны мужчин. От очень многих людей, с которыми я разговаривал впоследствии и которые долгие годы сокрушались о том, что случилось потом с Кадифе, я услышал, что, даже если образ «девушки-мятежницы в платке» был вскоре полностью забыт, новую личность, которую она играла тем вечером на сцене, жители Карса сохранили в своих сердцах. Когда Кадифе выходила в тот вечер на сцену, наступало глубокое молчание, а взрослые и дети, смотревшие телевизор у себя дома, после ее слов спрашивали друг у друга: «Что она сказала, что она сказала?»
Во время одной из этих пауз послышался гудок первого поезда, покидавшего город впервые за последние четыре дня. Ка был в вагоне, куда его насильно усадили солдаты. Мой милый друг, увидевший, что из вернувшейся машины не вышла Ипек, а вытащили только его сумку, изо всех сил уговаривал солдат, охранявших его, позволить ему увидеться с ней, но, не получив разрешения, убедил их еще раз отправить военную машину в отель, а когда машина приехала опять без Ипек, стал умолять офицеров еще на пять минут задержать поезд. Ипек снова не появилась, и, когда поезд, отправляясь, издал гудок, Ка заплакал. Поезд тронулся, а его глаза, полные слез, все еще искали в толпе на перроне, в дверях вокзала, обращенных к статуе Казыма Карабекира, высокую женщину с сумкой в руках, которая, как он мечтал, будет идти прямо к нему.
Поезд, набирая скорость, еще раз издал гудок. В этот момент Ипек и Тургут-бей вышли из отеля «Снежный дворец» и направились к Национальному театру. «Поезд отправляется», – сказал Тургут-бей. «Да, – ответила Ипек. – Дороги скоро откроются. Губернатор и начальник гарнизона вернутся в город». Она сказала еще о том, что так закончится этот глупый военный переворот и все вернется на свои места, но сказала она все это не потому, что считала важным, а потому, что чувствовала: если будет молчать, отец заподозрит ее в мыслях о Ка. Она и сама точно не знала, насколько она думает о Ка, а насколько о смерти Ладживерта. В душе она чувствовала сильную боль оттого, что упустила возможность стать счастливой, и огромный гнев на Ка. Она мало сомневалась в причинах этого гнева. Обсуждая со мной четыре года спустя в Карсе, без особого желания, причины своего гнева, она испытает сильное смущение из-за моих вопросов и подозрений и скажет мне, что после того вечера сразу поняла: продолжать любить Ка стало почти невозможно. Пока поезд, увозивший его, гудел и покидал город, Ипек испытывала лишь разочарование, возможно, еще и некоторое удивление. Теперь ее гораздо больше мучило то, как разделить свое горе с Кадифе.
Тургут-бей по молчанию дочери понял, что она переживает.
– Весь город словно покинут, – сказал он.
– Призрачный город, – сказала Ипек только для того, чтобы не молчать.
Перед ними проехал конвой из трех военных автомобилей и завернул за угол. Тургут-бей сказал, что эти машины смогли приехать, потому что дороги открылись. Отец с дочерью, чтобы отвлечься, посмотрели на огни проезжавшей перед ними и исчезавшей в темноте колонны. Согласно исследованиям, которые я провел позднее, в среднем фургоне находились тела Ладживерта и Ханде.
В неровном свете фар только что проехавшего джипа Тургут-бей увидел, что в витрине редакции газеты «Серхат шехир» вывешивают завтрашнюю газету; он остановился и прочитал: «Смерть на сцене. Известный актер Сунай Заим убит выстрелом во время вчерашнего вечернего представления».
Ознакомительная версия.