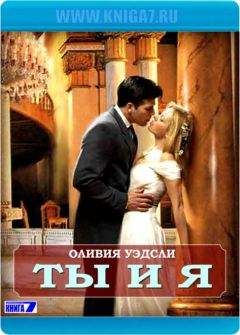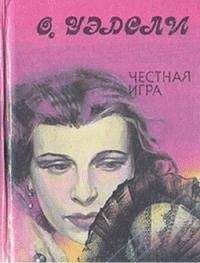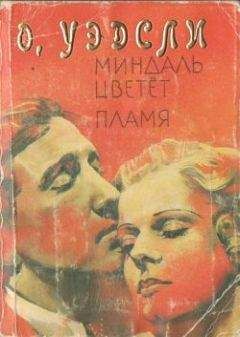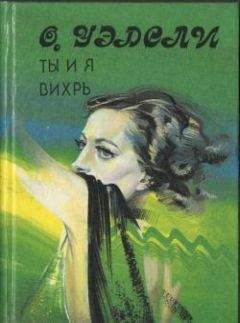Карди приказал подать себе кофе на маленькую террасу; зелень ее трельяжа поблекла уже на солнце, но ярко алели и краснели цветы ломоноса и вьющиеся розы.
Внизу, далеко внизу (Карди чуть усмехнулся, вспомнив радостное восклицание Тото: "О, еще несколько минут, и мы нырнем туда, дорогой!"), море сверкало, как весеннее дамское манто, голубое с золотом, переливая красивыми оттенками шелка, а далеко-далеко на горизонте шел крошечный белый пароходик, оставляя за собой струйку дыма.
Карди остро ощущал прелесть лета, ощущал почти как нечто осязаемое. Он еще сохранил ту способность радоваться необычайно ярко и полно, которая так сильно и так заметно появлялась и у Тото — была так характерна для нее.
Прищурив светлые серые глаза под короткими густыми ресницами, Карди почти сосредоточенно думал о Тото. Начать с того, что это был день ее рождения: ей минуло семнадцать лет. Там, в комнате, на круглом столе, на котором обычно царил датского фарфора слон со своими слонятами, стоял сегодня торт, весь из розового и белого крема, с красивой надписью, полной нежных слов.
Семнадцать! Мысли Карди обратились к тому дню, когда ему самому исполнилось семнадцать лет. Разумеется, было празднество; в его семье, во всех ее ветвях любили празднества по всяким предлогам и без таковых: потому, что ночь обещала быть морозной или лунной, или чудесной летней звездной ночью, или потому, что шел дождь. Любовь к празднествам была у Гревиллей качеством врожденным, прямым следствием их широкого гостеприимства, вполне самодовлеющего и ничуть не зависящего от состояния их финансов.
Карди был третьим сыном Теренция Гревилля. Билль и Марк — оба погибли на войне: один был убит при Монсе, другой — годом позже — при Вердене. Как они веселились в его семнадцатилетнюю годовщину! Биллю было тогда двадцать лет, Марку — восемнадцать. Тото немного похожа на Марка: такие же у нее зеленые глаза и так же дрожит подбородок, когда хочется и нельзя смеяться. О, Марк был удивительный! Как они провели время, когда все трое случайно встретились в Туркуане! В военное время другие по сто раз сговаривались, и ничего не выходило, а тут… Карди приехал за билетами для своих солдат. Билль привез донесение от начальства, а Марк был на пути домой, в отпуск. И они встретились! Билль и он сам выглядели оборванцами по сравнению с Марком, который тоже приехал прямо из траншей, — но ведь Марк почему-то всегда, при всяких обстоятельствах, имел такой вид, будто только что вышел от Филипса!
Пообедали они чудесно: была, представьте себе, утка, компот из апельсинов и настоящие английские горячие булочки! Разумеется, у Билля и там нашелся приятель, кстати, оказавшийся хозяином маленького ресторанчика. У Билля вечно находились приятели, по всем углам земного шара: где бы ни появлялось его смуглое, худощавое молодое лицо со смеющимися глазами, кто-нибудь да приходил в восторг.
И Тото унаследовала этот дар приобретать друзей. По всей Европе разбросаны они — люди самых разнообразных свойств и положений, — старики и старухи, которые ходили за садом или прислуживали в одной из тех вилл и квартир, что они снимали в Сорренто, в Будапеште, в Вене. Да в сущности, раздумывал Карди, ведь и сюда, в Копенгаген, они приехали по настоянию Тото, так как здесь умирал князь Борис, и она чувствовала, что должна повидать его еще раз. Несомненно, старикашка приободрился с приездом Тото и, пожалуй, выкарабкается, несмотря на преклонные годы. А тем временем в Женеве оплакивает отъезд Тото Гравелоти — русский революционер, другой закадычный друг Тото.
Карди задумался о дружбе — о способности некоторых людей заключать и сохранять дружеские связи; все дело, конечно, в том, чтобы давать и давать — себя, свой смех, свои надежды, свое время. Тото щедро расточала все это и с твердостью, необычной для семнадцати лет, верила, что и другие всегда оказываются на высоте положения.
Семнадцать!
В его семнадцатую годовщину была с ними и Обри, девушка, в которую Марк был влюблен, влюблен до безумия, так что едва не лишился рассудка, когда она умерла год или два спустя. Он так и не женился. Да и Билль тоже. Каким мерзавцем оказался Косгрэв! Толкнул в объятия Билля свою жену, чтобы скрыть собственные шашни, а когда узнал, что рискует остаться без гроша, — отец не соглашался отпускать ему средства в случае развода, — обернул все дело иначе, и у Мэри не хватило мужества постоять за Билля.
Карди нащупал сигару; в особом карманчике всегда торчало две-три штуки; на этот раз он вынул последнюю. Осторожно разжег ее, и пахучий аметистовый дымок пополз вверх, к виноградным листьям.
И так же лениво ползли его мысли. Как все они — Билль, Марк и он сам — были несчастны в любви! Марк — тот хоть потерял все сразу и бесповоротно, был ранен в упор непреклонной рукой. А Биллю и ему удары наносились исподтишка, в темноте, и раны, которых они сами стыдились, сочились кровью внутрь, загнивали. Не были ли они — он и Билль — слабы по натуре, так что грубой силе легко было отыгрываться на них? Или любили они слишком смиренно, безгранично, и это вызывало сомнение в их постоянстве? Или верили безмерно — ведь таких мужчин женщины часто честят дураками? Не проявил ли он себя слабым дураком в истории с Вероной?.. Вот уже восемь лет, как он в последний раз видел ее, четырнадцать — как говорил с ней и двадцать — как они обвенчались. Ему было тогда двадцать четыре года, ей — девятнадцать.
Рукава буфами, осиная талия, запах фиалки, — в тот год все женщины душились фиалкой и шляпы носили, приподнятые сзади кучей мелких блестящих локонов. У Вероны волосы были точно такие, как у Тото, — вернее, наоборот! — очень густые, упругие, блестящие и всегда очень пахучие. Волосы Вероны щекотали ему подбородок, когда они танцевали, а раз она обернулась, кивая кому-то, и душистая шелковая прядь коснулась его щеки, его губ — было это у Уолкеров, а позже Уолкеры же уступили им Морацен, чтобы они могли провести там свой медовый месяц.
Оратория была битком набита; от запаха лилий и курений дышалось с трудом. Верона при свете свечей казалась такой молодой и золотой — да, золотой. Пламя свечей отражалось золотыми звездочками в ее глазах, когда она, улыбаясь, глядела на него. Двадцать лет тому назад? Не вчера ли? После обеда они гуляли в засыпавшем саду, и у пруда с лилиями Верона сказала ему едва слышно, у самых губ:
— Пойдем в комнаты, милый!
И в Морацене же, шесть лет спустя, в такой же божественный притихший вечер, он набрел на нее и Родди Торренса, забывшихся в поцелуе.
Он вернулся раньше, чем рассчитывал, и из Лондона не успел телеграфировать — удачно попал на пароход. Родди провел там всю ту неделю, что он отсутствовал, а он и не подозревал.
Он едва не убил Родди (дрался, как полагается), затем развелся с Вероной и уехал из Англии с Тото.
Да, так оно было!
Даже сейчас противно вспомнить. Он поднялся и потянулся, тяжело вздохнув.
Раздался голос Тото — она напевала какую-то нелепую песенку. Немного погодя она высунулась из окна, и солнце заиграло в ее волосах.
Она взглянула вниз на Карди и с восхитительной улыбкой проговорила:
— Дорогой, я хоту коги!
Сегодня положительно день воспоминаний! "Я хоту коги" — так трехлетняя Тото повторяла слова матери, лениво требовавшей, чтобы ей подали кофе. Верону очень забавляло, что малютка копирует ее.
Тото была дня нее игрушкой, которая, утратив обаяние новизны, утратила и право на ее нежность.
Карди это смутно чувствовал, но даже мысленно не договаривал.
Он обернулся к входившей Тото. Она вложила в его руку прохладную ручку и улыбнулась ему. Глаза ее скользнули по морю, потом остановились на его лице.
На ветру легкое бледно-розовое кисейное платье обрисовывало стройную фигурку. Ей трудно было дать и семнадцать лет, когда, прижавшись кудрявой головкой к руке Карди, она говорила задумчиво:
— Вот что плохо в днях рождений: они заставляют вспоминать, правда? Я, видишь ли, посмотрела на тебя из окошка, и сердце у меня упало: у тебя был вспоминающий вид. Я была еще в штанишках, но кое-как напялила остальное и сломя голову бросилась к тебе. Не надо, папочка, в этот день рождения, не надо, дэдди мой!
Карди улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. Ее интуиция, ее любовь пробудили ответный отзвук.
— Ну-с, можешь распоряжаться мною! — сказал он. — Что ты выбираешь? Итальянский ресторанчик на скале — только ты да я, да Скуик, — или настоящий прием?
Тото задумалась.
— Кажется, первое, — объявила она. — Чарльз становится сентиментальным, и это могло бы испортить вечер.
— Он хочет, чтобы ты вышла за него? — спросил Карди напрямик.
— Как будто, — отозвалась Тото. — Я говорю, что мне еще рано и всякое такое, но он хочет, чтобы мы вроде как обручились, на два года, скажем, а я не могу. Я его люблю, понимаешь, люблю, как волосы у него лежат, и голос его, и его славные средневековые взгляды на женщин, но он не мог бы заменить мне солнце, луну, звезды, и узнай я, что никогда больше не увижу его, мне вовсе не показалось бы, что свет померк. С ним я чувствую себя не более романтично настроенной, чем когда купаю Давида и Ионафана. А надо чувствовать себя романтично настроенной с человеком, за которого собираешься выйти замуж. По крайней мере, я хочу чувствовать. Чарльз в моей жизни у места, но в нем — не вся жизнь.