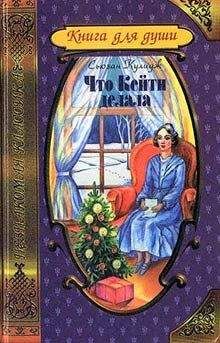Конрад АЙКЕН
НОЧЬ ПЕРЕД СУХИМ ЗАКОНОМ
Перевёл с английского Самуил ЧЕРФАС
Conrad Aiken. Night before Prohibition
Из сборника «Collected Stories of Conrad Aiken»
New York, 1960
Когда Уолтер Кулидж проснулся в «Доме Адамса», он сразу ощутил в утреннем сумраке, что пошёл снег, или вот–вот пойдёт.
Повернувшись в постели, он увидел за окном на фоне дальней закопчённой стены тихо падающие большие хлопья. И тут же его охватило чувство неги и уюта. Он улыбнулся, стиснул ладони под головой, полуприкрыл глаза и предался воспоминаниям. Странно, как это всегда случалось — не снег, конечно — но всякий раз, когда он останавливался в «Доме Адамса», появляясь в Нью–Хэмпшире раз в полгода, им овладевало одно и то же настроение. Едва проснувшись, он начинал вспоминать о старых добрых днях в Бостоне: о барах, в которых часто бывал — Франка Лока, Голландский Дом, Джексона, Прикол, Колокольчик — о театрах, бурлесках, призовых боях, маскарадах, а потом под конец, обязательно, всегда и непременно о Юнис. Почему эти мысли никогда не посещают его дома?
Он предположил, что, скорее всего, потому что там он вечно занят: в конторе, с женой Дейзи, с детьми, и в Клубе тоже занят.
Нет времени для сентиментальных воспоминаний. А, кроме того, переехав в Нашуа, он на самом деле остепенился. Развесёлая жизнь кончилась, как отрезало: ни тебе сто'ящего театра, ни баров, ни собутыльников, а значит нет повода, чтобы отвлекаться, и в мгновение ока весь ход его дней стал иным.
Это естественно — без сомнения, естественно; и так же естественно, что, приезжая в Бостон, он радостно вспоминает ту, другую, жизнь восемь лет назад и её радости. Вся прежняя толпа растаяла. Знакомых, или кого особенно хотелось бы повидать, почти не осталось; даже газеты стали другими. Вот, редакция прежней «Хроники», обшарпанная захламленная западня, где он просидел столько часов и в полночь помогал Майку строчить рецензии на последнюю музыкальную комедию. И это тоже пропало, а с нею и все, кого он там знал. Где теперь рыжая девчонка–лифтёрша, где Билл Фэрлей, спортивный репортёр, отшлёпавший когда‑то в гостинице подружку Фолли, потом умершую от чахотки, и Королева Виргиния с необъятной грудью, которая вела страничку для домохозяек — где они все сейчас? А хрупкая Мари, каждый вечер вытаскивавшая своего благоверного из канавы и делавшая за него всю работу вдобавок ко своей? Какие милые были люди, какие милые, и, очень возможно, что их уже нет на свете… Но где же, всё‑таки, теперь Юнис?
До сих пор его удивляло, как мало он сделал, чтобы сохранить с ней хоть какую‑то связь. Конечно, тогда он влюбился в Дейзи и ушёл, но, учитывая и это, как мало он был предусмотрителен, как плохо понимал человеческую природу и самого себя. Ведь можно было предвидеть, что когда‑нибудь он опять захочет с ней увидеться — даже если бы он не понимал, что любовь к ней не угасла и наполовину. Пожалуй, самое странное, что он прожил с ней три года, так и не осознав глубину и прелесть их чувства друг к другу. Это был весёлый, добрый и легкомысленный союз. Вечера приходили и уплывали как развлечение. Ему казалось, что они всегда смеялись — да, с самого начала, с первого мгновения, когда в подземке на Парк–стрит, хватаясь за ремешок, он крепко сжал её руку своей. Она расхохоталась: её смех он услышал раньше её голоса. Она не сняла руку с ремешка, за который ухватилась раньше него — просто повернулась к нему и рассмеялась, глянув вверх с изумлённой радостью. Не успев что‑то сообразить, он услышал:
— Боже, как это вы вдруг!
И сейчас видел, будто перед глазами, её вспыхнувший румянец, и помнил, какая невероятная отвага потребовалась ему, чтобы не убрать руку… И они пошли — куда же они пошли? В грязный китайский ресторанчик пить чай. А потом ужинали у Эвери. Потом она объяснила, как это случилось: она ни за что бы не осмелилась, если бы не выпила за обедом три коктейля. Ни за что! И, конечно, им больше не надо встречаться — вот сейчас она прогуляется с ним по Эспланаде, он может проводить её до Ньюбери–стрит, где она живёт в доме медсестёр, и на этом точка. Точка! Нет, это была не точка, а начало трёх счастливейших лет в его жизни и, быть может, в её тоже. Они шли и о чём‑то спорили — был душистый июньский вечер — присаживались то на одну скамейку, то на другую. Он всё уговаривал её не спешить, и добрались до дома только в полночь. Сколько комичного вздора они наговорили тогда! А сейчас он не может вспомнить ни одного слова — ни единого. Только звук её голоса, только её смех.
И следующий день — но это уже совсем другое. В нелепой комнатке с полукруглыми окнами в общежитии медсестёр они сидели рядом на жесткой кретоновой кушетке, а за открытым окном садовник подрезал плющ. Садовник был неразлучен с ними: он постоянно присутствовал здесь за окнами, переходил от одного окна к другому, медленно переставлял лестницу, медленно поднимался по ней, медленно подстригал, конечно, заглядывая в комнату, — и это их неодолимо сдерживало. Едва открыв рот, чтобы сказать что‑то важное, спросить, заглянуть в душу, они вдруг робели, говорили обрывками слов и не сводили глаз друг с друга. О, Боже, какими глазами они смотрели тогда! Смотрели и улыбались, улыбались и смотрели, и ждали — и ожидание делало всё ещё более неизбежным. Когда же садовник закончит? Ну же, наконец! Когда этот дядька отворачивался, они строили ему рожи. Но он проторчал, наверно, битый час. Вечерело. Закатный свет становился спокойней, ровнее, насыщенней; и он вспомнил, как впервые увидел в этом свете её восхитительные волосы: тёмный каштан с тусклым отсветом меди. Но когда садовник всё же ушёл, перестали щёлкать ножницы, и они могли, наконец, разговаривать, им совсем расхотелось говорить — только целоваться. Они поцеловались. Бостон сразу воздвиг радугу, и мир переменился.
Но сейчас, когда он пытался вспомнить отдельные моменты — дни, часы, недели — как необъяснимо трудно было уцепиться за что‑то определённое: какое‑то слово, жест или случай. Первое время они так часто ужинали вместе в одних и тех же гостиницах, что все эти восхитительные трапезы стали совершенно неотличимы: одинаковые оркестры, тот же бенедиктин с кофе (она сказала, что этот ликёр возбуждает страсть и, сказав, хихикнула), те же расфуфыренные певички, выводившие: «Ми–с-с–и-с–и-пи». Их встречи в фойе были всегда одинаковы, в тот же час, под той же пальмой или у медной урны. Постепенно это приключение становилось из необычного привычным, превращалось в очаровательный ритуал, новое сплетение множества привычек. Всё реже он теперь проводил вечера с Майком или Биллом, перестал бывать на маскарадах и призовых боях, а вместо этого передал свою жизнь всецело во власть Юнис. Первые три месяца были полны особого очарования — до того, как они стали вместе жить, и пока оставался налёт тайны. Ну, например, этот странное общежитие медсестёр, его хозяйка миссис Бергесс из Нью–Бедфорда, укутанная в сто одёжек восторженная старушка, мисс Мак–Киттрик, мисс Лэмб и соседка Юнис по комнате, мисс Орр — как необычно было для него вдруг окунуться в этот особенный замкнутый в себе мирок! И постепенно, когда вечер за вечером они ужинали вместе и возвращались в маленькую гостиную со сводчатыми окнами, всегда почтительно поздоровавшись с миссис Бергесс, он проникался этой тихой, размеренной, упорядоченной, как в монастыре, но отнюдь не такой добродетельной, жизнью. Юнис любила посплетничать о сестричках. Здесь всегда веяло каким‑то новым скандалом, и он усмехнулся, вспомнив её радостно–проказливое личико в предвкушении рассказа о нескромном событии. Она подносила платочек ко рту, давясь смехом, и краснела. А потом следовал рассказ. Было, например, ночное вторжение «технарей»: ребят из соседнего частного общежития инженерного колледжа. Оба дома были совершенно одинаковы, и сзади каждого на крыше четвёртого этажа имелась площадка, где можно было с удовольствием посидеть и покурить в летний вечер: надо лишь пролезть на неё через окно в комнате мисс Мак–Киттрик. Обе крыши разделяла только низкая кирпичная стенка, и когда однажды вечером мисс Мак–Киттрик и мисс Лэмб разлеглись на пуфиках в своих «кимоно», вдруг над стенкой показались две нахальные молодые рожи. Последствием было несколько встреч с джином то по одну, то по другую сторону стенки, о чём бедная миссис Бергесс так и не проведала. Вообще‑то, два парня разок добрались до самой спальни, и Мак–Киттрик едва успела их вытолкать до прихода Доктора.
Доктор был женихом мисс Мак–Киттрик — по крайней мере, она так говорила. Она стала его «трудным случаем»: когда появлялся трудный больной, Доктор всегда приглашал её в помощницы. Потом они куда‑то съездили на автомобиле, потом ещё раз. Сестрички быстро смекнули, что к чему, и стали ей завидовать. Он купил ей шубку из котика и ещё какие‑то тряпки. А через два года она узнала, что Доктор собирается жениться на другой, и у нее случился нервный срыв. Грозила подать на него в суд за нарушение обязательства, её отговорили, и она согласилась взять у него в виде отступного какие‑то облигации на десять тысяч долларов.