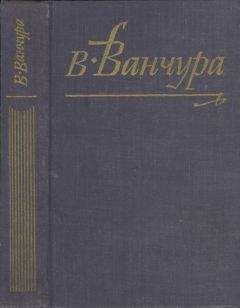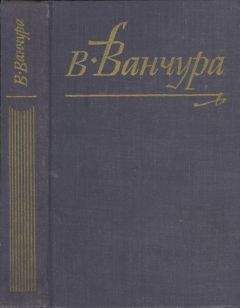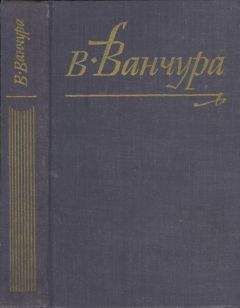Мой дорогой бард, [1] мы уже не первой молодости, и приключалось с нами множество происшествий, большинство из которых не стоили бы упоминания. Да что за беда, ведь были среди них и прекрасные, и безумные, и шутовские. Слыхивал я, будто ты ночи напролет проводил на берегах рек с удочкой в руке, но не улов заботил тебя, удильщик имен. И будто стоял ты чуть ли не по пояс в воде, а ежели водяная живность дергала твою лесу или сам ты замечал тонущий поплавок, то тебя охватывало волнение, словно во время атаки. Тетушки поговаривали о чистом безумии. И с полным правом, ибо все, что надлежало передать в кухню, ты бросал обратно в ручей, смеясь, словно помешанный, у которого усы и борода вымазаны медом. Я тоже не обнаруживал смысла в этих зоологических увлечениях, но суть игры была мне понятна. Тем лучше. Своды тех дней почернели от копоти, и подступает осень. Вокруг — кромешная тьма, по окнам моей горницы хлещут ветви леса. Утешно мне вспоминать о твоих проказах, и я с радостью узнал бы что-нибудь еще о веселых шалостях, оставшихся для меня тайной. Но увы! отца моего, который многое мог бы о них рассказать, уже нет среди живых. Его нет среди живых, а вы с ним так немыслимо схожи! И оттого для меня поистине бесценно счастье беседовать именно с тобой, и поскольку дела, до тебя касающиеся, мне известны меньше, чем я того желал бы и считал достаточным, позволь мне начать повествование о братьях-разбойниках, с которыми нас роднит общее имя. Несуразность этой истории мне более чем по душе, и я твердо надеюсь, что тебя она тоже не разочарует.
Безумства и шутовство рассеваются как попало. Позвольте истории нашей разыграться в краю Младоболеславском, в пору волнений и смуты, когда король вел борьбу за безопасность проезжих дорог, наталкиваясь при этом на жесточайшее сопротивление дворян, которые оказывали себя попросту злодеями и, что того хуже, проливали кровь чуть ли не с хохотом. Сами вы от бесконечных разглагольствований о великодушии и пленительном нраве народа нашего сделались непомерно чувствительны и, пируя, проливаете разве лишь воду на столе — к досаде кухарки, а те парни, о которых я поведу рассказ, были бедовые, как черти. Были то удальцы, которых я мог бы уподобить разве что жеребчикам. Их очень мало заботило то, что вам нынче представляется таким важным! Какая там гребенка или мыло! Они не помнили даже заповедей господних!
Говорят, будто в те времена подобных богохульников было великое множество, но в этой повести речь пойдет лишь об одном семействе, имя которого, должно быть ошибкою, упоминают в связи с Вацлавом[2]. Ухватливые это были дворяне! Самый старший из них даже в те кровавые времена был окрещен, нарекли его каким-то прелестным именем, да он запамятовал о нем и до самой своей постыдной смерти прозывался Козлик.
Стало так, по-видимому, оттого, что крещение не внушило ему душеспасительных мыслей, но отчасти тут повинна еще его манера одеваться. Удалец наш с головы до пят был укутан в кожи, а поскольку был он к тому же лыс, то и голову свою тоже обматывал козьей шкурой. И ей-ей! не зря пекся разбойник о своей башке, потому что была она рассечена и срослась кое-как.
От такой раны любой нынешний военачальник наверняка преставился бы прежде, чем медицинский персонал успел бы поднести ему ложечку чая. А Козлик! Залепил рану илом и добрался домой верхом на коне, раскровенив ему бок варварской шпорой. Помяните его и не судите слишком строго, потому что был он отважен и не визжал со страха. Так вот, у этого меченого Козла было восемь сынов и девять дочерей. Увы, благословенье это он не считал знаком божьей милости и похвалялся перед себе подобными, когда на семьдесят первом году произвел на свет последнего сына. Супруге его, пани Катержине, как раз на крестины стукнуло пятьдесят четыре года.
Уж эта плодовитость! Ежели в те поры кровь не успевала высыхать на ножах душегубов, то и были они наделены неиссякаемыми родниками жизни, так что придется вам представить себе ангелов-благовестителей, стоящих в изголовье супружеских постелей в виде пухленьких бутузов в тесных одеждах, с багровыми от натуги щеками и вздувшимися на лбу жилами.
В Геркулесовы времена кровь обновляется быстро. Некоторых Козликовых сыновей бог также благословил детками. Пятеро дочек были уже просватаны, а четыре пока еще ходили в девушках. Старик отец едва ли имел понятие о их существовании, для него они значили меньше, чем прислуга.
Да и то сказать, стоит ли упоминания неплодная красота? А вот заверещат у них меж колен детки, нальются молоком груди, произведут они на свет нечто сообразное своему здоровью и силе — вот тогда и Козлику пристойно будет поговорить с ними, как с родными дочерьми. Едва только это свершится, одну за другой обзовет он «уродиной» и притянет к себе, приложив щекой к своему косматому уху.
Теперь остается мне упомянуть о сыновьях да назвать их по именам. Как же их много! Первенца нарекли Яном, за ним следовали Миколаш, Иржи, Адам; эту череду нарушали дочери: Маркета, Анна, Саломена, а потом снова шли сыновья: Смил, Буриан и Петр, а затем опять дочери: Катушка, Алена, Элишка, Штепанка, Иза, Драгомира, которую на девятом году жизни обезглавили королевские солдаты. Последний из семнадцати детей был окрещен Вацлавом.
В пору, о которой мы ведем повествование, земля была тучной, а луга — вечно зелеными. Из высоких трав виднелись лишь головы косарей. Однако ничто не принудит головореза обратить свои помыслы к любезным полям. Две-три коровенки с тощим выменем от постоянных перегонов больше приноровились к бегу, чем к мирной пастьбе. Несметное число раз, не дав животине полакомиться бутонами и сочной травой, необузданные Козликовы дикари с истошными криками хватали ее да во всю прыть волокли к повозкам. Глядь! — и вот они уже снова прикручивают ее за рога к телеге.
Бедняжки, придется вам трусить за шалыми колесами, словно лошадкам.
Но к чему все эти переезды да кочевья? Дело в том, что Козлик и все его сыновья- разбойники. Боюсь, что это клеймо лежит и на женщинах и девушках ихнего рода. Это — шайка разбойников. Работа им не по нраву. Обильные поля порастают лесом, а милую их сердцу крепость Рогачек неприятели раз в десятилетие либо выжигают дотла, либо разносят в щепы. Приходится тогда разбойникам укрываться в лесах. А ежели роды прихватят роженицу прямо у костра — лиха ли беда? Пустое! Хватит ей куриной похлебки и лапши в воровском котелке! А там приволокут и попа, врасплох захваченного у врат храма либо прямо в постели. Посмотрим, выкажет ли он охоту упорствовать? Пусть делает свое дело, ибо разбойнички питают слабость к закону божьему. Неровен час, забьет кто в схватке младенца, помрет нехристем. Зимой года нашего повествования ударили в декабре морозы, да такие жестокие, каким был тогдашний християнский люд. Копыта коней подпаливало морозом, будто раскаленной подковой, а коровьи соски покрывались ледышками. В этакую стужу славно греться у костра, но, черт побери, насколько же все-таки лучше тем, что спят дома или хотя бы на вязанке хвороста в хлеву! К несчастью, король прогневался на мошенников и разослал по саксонским дорогам солдат, дабы творили они суд и расправу. Козлик решил обороняться на Рогачеке, но пруд внезапно сковало льдом, и лед окреп настолько, что конные могли бы подступить чуть не под самые окна крепости. В открытом поле Козликова свора могла противостоять пяти десяткам солдат, да ведь как отгадаешь, сколько их подвалит!
«Миколаш, — не сбавляя волчьей побежки, сказал старик сыну, — возьми двух коней да турецкие ткани, сколько ни есть, да подарок для бабы подбери по своему разуменью. Поезжай к Лазару!»
И любезный сын, у которого багровые щеки на морозе превратились прямо в медные, сломя голову мчится в конюшню.
«Седлай жеребца!» — орет он челядину, подносящему ковш.
Вечно подымалась горячка, если кому-нибудь из этих господ что-либо взбредало в голову. Челядин швырнул ковш наземь. Не успела еще посудина дозвенеть, а он уже возле коней. Окаянный жеребец бьет копытом, встает на дыбы, и кобылы поворачивают к нему морды, а жеребята с протяжным ржанием сбиваются в кучу.
Меж тем Миколаш запускает в сундуки огромные свои ручищи, свои косматые когтистые лапы, и переворачивает вверх дном содержимое, долго не находя того, что ищет. Наконец извлекает богатую ткань. Ткань помята, потому как купец-армянин, что вез товар из Персии в Нидерланды, не отдал дорогую вещь добром, а, скрестив руки, судорожно прижимал ее к своей птичьей груди. Ткань забрызгана кровью. Ладно, агнца моего это наверняка не смущает. Он — отменный хранитель либо расхититель кладов, его ничто не встревожит. Однако! Два резких порыва ветра заставляют молодца оглянуться и захлопнуть крышку сундука. Драгоценная диадема — чуть не пополам! Но с подарком — решено; как всякие решения в те беспокойные времена, оно также припечатано ударом кулака.