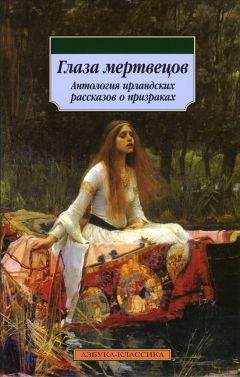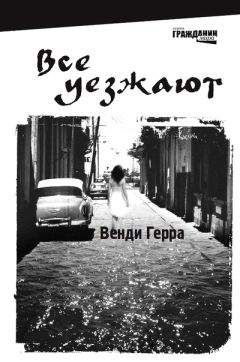— Нёма, не я убивал… — тихо сказал Абрам Нашатырь. — Ты еще должен бояться, чтобы тебя тут не узнали…
— Ну, я убил! — стерся вдруг в шепот, как соскочившая граммофонная игла, Нёмин голос. — Я убил. Так все убивали… гадов все убивали… так я ж был тогда красноармеец… революционер я был, Абрам!… Что, нет?…
— Нет, — сказал Абрам Нашатырь, — ты просто забрал у старухи ее браслеты и золото.
— А кто направил?… Кто меня направил… а?… Может быть, я вру!… Скажи мне, Абрам, что я вру?!
Абрам Нашатырь исподлобья, точно гипнотизируя, смотрел на брата. Нёма схватил его за руку, и оба близко друг к другу сели на кровати.
— Ты убил, Абрам… — быстро зашептал опять Нёма. — И ты и я… Моими руками ты убивал, — слышишь, что я тебе говорю!… Ты меня потревожил сегодня, Абрам, и я не могу уже молчать… Разве я хотел убивать… какой еврей думает убивать?! Она… старуха хотела выскочить через окно… она даже раз крикнула: «Леночка… Леночка… беги…» — ну, я ее револьвером по голове… раз, другой… и все тут!… Убил бы и дочку, если б не видел, что лежит она за диваном в таком обмороке, что через час не опомнится…
Нёма дышал в лицо брату, сверкал своими мозаичными глазами, и костыли в дергавшихся беспокойно руках скрипуче соскальзывали на пол.
Казалось, он -не может уже остановить остро нахлынувших воспоминаний:
— … Все -и золото и драгоценности — все сложил в саквояжик… в этот самый… желтенький, и передал тебе сразу же на улице… А ты ждал… Ждал меня, — помнишь, Абрам!… Дождь еще шел, и ты чуть не упал еще в грязь… помнишь?… И бежать я должен был ночью… Больной был, — тиф начинался, а бежать нужно было… а?… Сразу бежать надо было, иначе Деникин хлопнул бы тут… помнишь?…
— Ну, хорошо… жив остался!… — прервал Абрам Нашатырь.
— Вот и остался… А ты не ожидал. Ногу только потерял, инвалид я!… И когда бежал я отсюда, поцеловались мы… помнишь, Абрам?., поцеловались!… И саквояжик я захватил с собой… И спросил тебя: «Взял себе долю, Абрам?» — «Взял, — говоришь, — беги и храни…» А как раскрыл я саквояжик в дороге, уже под Полтавой мы были, — так я все и понял!… Поздно только… Абрам, теперь я тоже, как честный человек, говорю: прими меня в дело на половинных началах… Что?… Ты не хочешь?! Так я, Нёма Нашатырь, говорю тебе: помни, что советская власть никогда не откажется от этого самого дома и твоего имущества, когда узнает, что оно выросло на золоте старой буржуйки-помещицы!…
— Нёма! — рванулся к нему Абрам Нашатырь. — Ты пожалеешь, чтоб ты знал, что угрожаешь своему брату!…
— Так делай так, чтобы не пугаться! — блеснули ответом в глаза желтые гвоздики зубов, и Нёма громко засмеялся. — Абрам! — голос снова упал почти до шепота. — Абрам, ты ж не побоялся каждый день напоминать себе про то самое… наше общее… дело, когда взял к себе в заведение дешевую музыкантшу… Не бойся, я не подумаю, что у тебя заболела вдруг, как говорится, совесть!… Нет, ты купил дешевый товар… Но ты-таки рисковал, и я за это тебя, Абрам, немножко уважаю…
Но Нашатырь как будто не слушал последних слов брата:
— Нёма, — повторил он опять, — ты пожалеешь, я тебе говорю, что угрожаешь своему брату…
— Боишься?…
— Я не боюсь, — глухо сказал Абрам Нашатырь, — я просто не верю тебе, Нёма: когда начнут вспоминать про старуху, так не забудут вспомнить и о моем брате… Я так думаю, Нёма…
И он, чуть усмехаясь сморщенными, как кора, губами, расшнуровавшими теперь замкнутость его лица, пристально посмотрел на брата, а длинная и перевитая выступающими наружу узловатыми жилами рука пощипывала медленно остренький клинышек бородки.
— Может быть… может быть… Нет, наверное, даже вспомнят о твоем брате, Абрам, — поторопился ответом Нёма. — Ты же первый о нем напомнишь! — зло улыбнулся он. — Но… но ты немножечко плохой «счетовод», Абрам: ты плохо можешь считать на счетах времени, как говорится…
— А ну-ну, Нёма! — И Абрам Нашатырь насторожился. -Ты что-то начал говорить очень умными словами… Ну-ну?…
— Я никогда не считал себя, Абрам, глупее своего брата. И я тебе говорю… Какая-то старуха отправилась на кладбище… ну, словом, ее кто-то не по злости стукнул… но это было пять лет тому назад., пять лет, Абрам!… Ну, стукнули, — так что теперь — следователю слезы проливать, а? Если он по всякому такому случаю слезами будет капать, так у него глаз вытечет и он не сможет видеть тех, на кого все-таки интересно посмотреть… Как ты думаешь, Абрам?… И потом: что имел тот, кто приложил свою руку к старухе? Ни копеечкой не попользовался, советскую власть в окопах защищал и несчастным калекой теперь шкандыбает! Так стоит ли такого человека серьезно пришивать к делу? А?
— Та-ак… — протянул нерешительно Абрам Нашатырь. -Выходит, что тебе еще награду?…
— Не, зачем? — чувствуя уже свое превосходство над братом, засмеялся Нёма. — А теперь дальше: что скажут тому, кто старухиной золотой копеечкой пользовался?… Кто у брата своего красноармейца народное имущество украл и не вернул его нашей власти?… Кто два доходных заведения на эти копеечки открыл?… Что такому будет, как ты думаешь, Абрам?… У нас с тобой одна фамилия, но у меня, Абрам, на этот случай, кажется, более счастливое имя!…
Он замолчал и, продолжая неслышно смеяться одними только поблескивающими от возбуждения глазами, быстро заходил по комнате. Отвесок коротко срезанной ноги судорожно вздрагивал, и полуживое мясо в наполненном, тугом мешочке брюк, словно большой угрожающий кулак, мелькало перед глазами Абрама Нашатыря.
Теперь этот полуживой отвесок ноги, калека брат, не казался уже ему, как раньше, легким и слабым: Нёма одолевал его хитро вплетенным теперь своим прошлым красноармейца-инвалида, отдавшего уже свою дань тем, кто захочет вспомнить о давно ушедшей из жизни, всеми позабытой теперь старухе.
— Нёма! — сказал он, подойдя вслед за братом к окну и скосив в сторону глаза. — Нёма! — повторил он, — ты хочешь меня гнуть, будто я у тебя в руках хлыстик! Но я не сломаюсь, чтоб ты знал… Я могу вырваться и больно ударить… Ей-богу, на то я — Абрам Нашатырь!…
И он, повернувшись, вышел быстро из номера.
Он должен был так ответить шантажировавшему его брату — круто и угрожающе, — этот осторожный, но упрямый простолюдин, бывший базарный торговец курами и гусями, пришедший крутым проломом своего пути к обогащавшему его дому на торговой улице Херсонской…
Он был одним из тех, кто, случайно наткнувшись в жизни на потерянную или выбитую из рук другого вещь, цепко хватают ее, считая уже своей собственной, как будто всегда им принадлежавшей и потому всегда трудно отдаваемой.
Еще так недавно никем не замечаемый в городе мелкий базарный торговец, приносивший на кухню к зажиточным булынчужанам кур и гусей и исподлобья глядевший угрюмым серым стеклом своих глаз на не дававшуюся в руки, всегда возбуждавшую придушенную зависть, чужую добротную жизнь, — Абрам Нашатырь, удачливый крепнущий богатей, теперь научился ценить ее, не допуская к ней чью-либо любопытную и жадную руку — своей, зорко стерегущей.
Он, — как и люди, разметавшие революцией в клочья тяжелую добротность жизни тех, к кому он имел доступ только на кухне, — побаивался и ненавидел их раньше, а теперь -презирал, грубо и откровенно презирал их за то, что у них оказался дряблый, обносившийся, как ветошь, ум и гнилые, плохо скрученные жилы в руках: они не сумели, когда надо было, сжать верной костью кричащее горло тех, что пришли сейчас в жизнь победителями…
Он радовался в душе этой чужой победе, потому что видел и знал теперь ее подхваченную крепко, уроненную невольно щедрость, вскормившую его — недавнего простолюдина, -Абрама Нашатыря.
И он делил эту победу: скрытый и осторожный, он брал теперь свою долю, которую — уставшие от своей не рассчитанной удачи — ему уступали…
Но… только с ним он, Абрам Нашатырь, может что-либо делить, только с другой силой!…
И вдруг — пришел третий: Нёма…
Этот калека, — носивший одну с ним фамилию и рожденный давно одной и той же, уже истлевшей в могиле, никогда не вспоминаемой женщиной, — встал на пути, угрожая ему внезапным обрывом, куда может вдруг жизнь падалью сбросить сытые, добротные дни его, Абрама Нашатыря.
Есть над чем теперь призадуматься!…
И вечером сказал, шевеля желваками под скулами, Абрам Нашатырь:
— Нёма, я согласен, чтоб ты не уезжал. Что ж… надо что-нибудь придумать, чтоб ты имел свой пай в деле!… Будем разговаривать, как говорится…
— Будем разговаривать!… — засмеялся Нёма. — Когда человек видит, где торчит иголка, так он не ткнет туда палец. Так и с тобой, Абрам: ты неплохо видишь! За это я тебя тоже уважаю…
Они стояли у входа в кафе. Из вестибюля «Якоря» приближалась с черной папкой нот под мышкой Елена Ивановна. Увидев ее, Нёма наклонился близко к брату:
— Слушай, Абрам: я согласен отдать тебе лишних десять процентов, чтоб только эта Терешкевич больше у нас не служила…