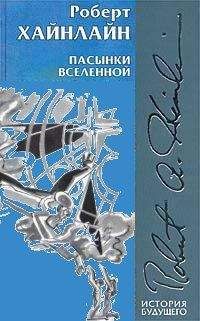Этот сдвиг отразился, как в сейсмографе, в поэзии Уитмана. В то время как другие поэты всё ещё упивались закатами и лилейными персями, Уитман стал демонстративно воспевать доки, мостовые, больницы, мертвецкие, верфи, вокзалы, трамваи, шарканье миллионов подошв и таким образом, вместе с Максимом Дюканом, явился основоположником урбанистической поэзии нашего времени, предтечей таких урбанистов, как Верхари, Брюсов, Маяковский.
Не нужно думать, что та счастливая эпоха, когда он создавал свою книгу, была совершенно безоблачна. С самого начала пятидесятых годов на демократию явно надвинулись тучи. Ожидание неизбежной грозы — характернейшая черта того времени.
«Мы живём среди тревог и страхов, мы ждём от каждого газетного листа катастроф! — восклицал Авраам Линкольн в тот самый год, когда Уитман заканчивал „Листья травы“. — Пролита будет кровь, и брат поднимет руку на брата!»
Кровью действительно пахло тогда, и с каждым днём всё сильнее. Близилась гражданская война. Юг и Север были на ножах.
Отчаянный Джон Браун, революционер-террорист из Канзаса, в те самые годы, в годы «Листьев травы», во имя раскрепощения негров убил пятерых плантаторов, а через несколько лет, захватив городском арсенал, взял заложниками именитейших граждан и с оружием в руках пошёл освобождать чернокожих. Его ранили, схватили, повесили как бунтовщика и изменника, но все чувствовали, что — он центральный человек той эпохи, воплотивший в себе надвигавшиеся на неё катастрофы и страсти.
Чарльз Дана, редактор «Нью-Йоркской трибуны», где печатались статьи Карла Маркса, восклицал: «Пусть другие оказывают помощь тиранам, мы умрём за Справедливость и Свободу и не побоимся отдать своё оружие тем, кого зовут демагогами».
Именно в то время Генри Торо писал свою бунтарскую статью «О долге гражданина не повиноваться властям».
Этой грозовой атмосферой была насыщена книга Уолта Уитмана:
(Да, я воспеваю не только покорность,
Я также воспеваю и мятеж,
Ибо я верный поэт каждого бесстрашного бунтаря во всем мире,
И кто хочет итти за мною, забудь об уютах и буднях,
Каждый час ты рискуешь своей головой.)
Так как в книге Уитмана такие декларации встречаются достаточно часто, во многих странах (и прежде всего в России 1905–1917 гг.) он воспринимался читателями как революционный поэт. Для этого у читателей были, казалось бы, все основания: в «Листьях травы» есть горячие гимны итальянским, австрийским, французским повстанцам 1848–1849 гг. («Европа»), есть стихи, приветствующие европейских бунтарей («Европейскому революционеру, который потерпел поражение»), есть стихи, воспевающие революцию в Испании («Испания в 1873–1874 гг.») и т. д.
Между тем в этих стихотворениях сказалось обычное сочувствие всех, даже умеренных, граждан заокеанской республики к далёким и чужим революциям, совершающимся в другом полушарии. В отношении же современной Уитману американской действительности он дальше реформистских стремлений не шёл, хотя многое в этой действительности было ненавистно ему (о чём свидетельствуют его гневные тирады в «Демократических далях» и в замечательной поэме «Отвечайте!»), он считал все отрицательные факты американского быта преходящими, случайными, легко устранимыми и был чрезвычайно далёк от какого бы то ни было революционного действия в своей собственной жизненной практике.
Но всё же европейские передовые читатели нашли в книге Уитмана немало такого, что родственно-близко и дорого им. Его свободолюбие, его жизнерадостность, его гимны народным массам, его вера во всемогущество позитивных наук, его славословия технике, его призывы к братскому единению людей, — всё это привлекло к нему во Франции, в Норвегии, в Китае, в Голландии, в Индии горячие симпатии трудящихся, и они почувствовали в нём своего.
«Конечно, в нём было много такого, что неотделимо от буржуазной демократии XIX века — говорит о нём Ньютон Арвин, — но всё это забыто читателями, а то прогрессивное, глубоко гуманное, что выражено в его стихах более жизненно, более художественно, более оригинально и более пластично, чем в произведениях какого бы то ни было другого писателя, придаёт нашим современникам могучие силы в их борьбе с варварской чёрной реакцией и всегда будет вдохновлять те народы, которые станут трудиться над построением справедливого общества. Этим людям с каждым годом делается всё очевиднее, что от нашего недавнего прошлого мы не унаследовали более полного и более смелого пророчества о братском гуманизме грядущего, чем „Листья травы“ Уолта Уитмана».
9
То новое содержание, которое Уолт Уитман внёс в мировую поэзию, потребовало от него новых, невиданных форм. Уитман — один из самых смелых литературных новаторов. Он демонстративно отверг все формы, сюжеты и образы, завещанные литературе былыми веками. Он так и заявил в боевом предисловии к своим «Листьям травы», что вся эта «замызганная рухлядь» поэзии — эти баллады, сонеты, секстины, октавы — должны быть сданы в архив, так как они с древних времен составляют усладу привилегированных классов, новым же хозяевам всемирной истории не нужны пустопорожние красивости:
Прочь эти старые песни!
Эти романы и драмы о чужестранных дворах,
Эти любовные стансы, облитые патокой рифмы,
Эти интриги и амуры бездельников,
Годные лишь для балов, где ночные танцоры шаркают
подошвами под музыку.
«Патока рифм» казалась ему слишком слащавой для «атлетических» масс. Он потратил несколько лет, чтобы вытравить из своей книги все «фокусы, трюки, эффекты, прикрасы и вычуры» обычной традиционной поэзии. Ведь паровозу не нужно орнаментов, чтобы быть образцом красоты, и уличной сутолоке не нужны ни анапесты, ни дактили, чтобы звучать великолепными ритмами, какие не снились и Гомеру. В век изысканной инструментовки стиха, когда литература привилегированных классов выдвинула таких непревзойдённых мастеров поэтической техники, как Теннисон, Данте Габриэль Россетти и Суинберн, Уитман только и старался о том, чтобы его стихи были мускулистее, корявее, жёстче, занозистее. «Куда нам эти мелкие штучки, сделанные дряблыми пальцами?» — говорил он о современной ему американской поэзии и безбоязненно вводил в свои стихи уличную, разговорную, прозаическую газетную речь.
Его словарь богат такими «грубостями», которые и посейчас возмущают благовоспитанных критиков. Наперекор галантностям будуарной поэзии он воспевал, например, в женщине не ланиты и очи, а
Рёбра, живот, позвоночник…
Матку, груди, соски…
Пульс, пищеварение, пот…
Кожу, веснушки и волосы…
Красоту поясницы и ляжек, и их нисхождение к коленям,
Прекрасную реализацию здоровья.
Он чувствовал себя освобождённым от всяких наваждений аскетизма. Он не был бы поэтом науки, если бы в природе человека признал хоть что-нибудь ничтожным и грязным. Он не был бы поэтом идеального равенства, если бы в отношении органов тела придерживался табели о рангах, разделив их на дворян и плебеев.
Вообще законы поэтики, по его убеждению, должны подчиниться законам природы. «О, если бы моя песня была проста, как рёв и мычание животных, быстра и ловка, как движения рыб, как капание капель дождя!» Обладай он гениальностью Шекспира, он, по его утверждению, отказался бы от этого дара, если б море дало ему один переплеск волны, дохнуло в его стих одним дыханием и оставило там свой запах.
Всё книжное, условно-поэтическое казалось ему отвратительной ложью. Он уверял, что каждую свою строку создаёт на берегу океана, проверяя её воздухом и солнцем. «Все поэты из сил выбиваются, чтобы сделать свои книги ароматнее, вкуснее, пикантнее, но у природы, которая одна была мне образцом, такого стремления нет. Человек, имея дело с природой, всегда норовит приукрасить её. Скрещиванием и отбором он усиливает запахи и колеры цветов, сочность плодов и т. д. То же самое он делает в поэзии, добивается сильнейшей светотени, ярчайшей краски, острейшего запаха, самого „ударного“ эффекта. Поступая так, он изменяет природе».
И долго держалась легенда, будто его стихи так же необдуманны, внезапны и дики, как рычание лесного зверя. Он сам этой легенде потворствовал. «Тот не поймёт моей книги, кто захочет смотреть на неё как на литературное явление, с эстетическими и художественными задачами…» «Среди книг я лежу дураком, как немой, как нерождённый, как мёртвый».
Но мы видели, что это не так. Даже странно читать, сколько правил и догматов — именно литературных, эстетических — внушал себе этот «дикарь». В его безыскусственности было много искусства, и в его простоте была сложность. «Даже в отказе своём от художеств он оказался художником», — говорит о нём Оскар Уайльд. Но, конечно, Уитман хорошо сознавал, что для того, чтобы сделаться великим поэтом, нужно думать не только о «косметических прикрасах стиха», но о себе, о своей нравственной личности. Чтобы создать поэму, ты должен создать себя. «Пойми, что в твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе же самом, — твердил он, обращаясь к себе. — Если ты злой или пошлый, это не укроется от них. Если ты любишь, чтобы во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга или завистник, или не веришь в загробную жизнь, или низменно смотришь на женщин, — это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь. Нет такой уловки, такого приёма, такого рецепта, чтобы скрыть от твоих писаний хоть какой-нибудь изъян твоего сердца».