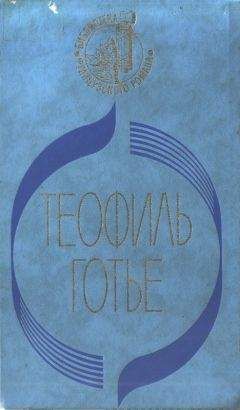Но это существование, с которым я, может казаться, примирился, все же совершенно мне не подходит; во всяком случае, оно слишком отдаленно похоже на то, о чем я мечтаю и к чему чувствую склонность. Быть может, я заблуждаюсь, и на самом деле именно для такого образа жизни я родился на свет, но мне трудно в это поверить: если бы такова была моя судьба, мне жилось бы привольнее, и я не ушибался бы то и дело об острые углы, да притом так больно.
Ты знаешь, с какой властной силой манят меня загадочные приключения, как я обожаю все странное, чрезмерное, смертельно опасное и с какой жадностью глотаю романы и описания путешествий; быть может, нет на земле более безумной, более безудержной фантазии, чем моя; так вот, не знаю уж, почему судьба так распорядилась, но только у меня никогда не было приключений, и я никогда не пускался в дальние странствия. Мое кругосветное путешествие — это прогулка по городу, в котором я живу; со всех сторон я задеваю за горизонт; я толкаю локтями действительность. Моя жизнь — жизнь устрицы на песчаной отмели, плюща, обвившего дерево, сверчка на печи. Право, я удивлен, почему ноги мои до сих пор не пустили корней.
Любовь рисуют с повязкой на глазах; на самом деле так следовало бы изображать Судьбу.
Слуга у меня — неповоротливый и туповатый мужлан, но его изрядно помотало по свету, и где он только не побывал, куда его не заносило; он воочию видел то, что я в своем воображении расцвечиваю столь яркими красками, но не придает этому никакого значения; он попадал в самые невероятные переделки; он пережил самые удивительные приключения, какие только бывают на свете. Иногда я его расспрашиваю и бешусь при мысли, что все эти события выпали на долю дурака, не способного ни мыслить, ни чувствовать и умеющего делать лишь то, что он делает: чистить фраки да сапоги.
Судьба этого бездельника явно предназначалась мне. А он считает меня счастливым человеком и диву дается, почему я так печален.
Все это не слишком занимательно, мой бедный друг, и не стоит того, чтобы быть изложенным на бумаге, не правда ли? Но раз уж ты решительно требуешь, чтобы я писал, приходится мне рассказывать тебе, о чем я думаю, что чувствую, и за неимением событий и поступков составлять для тебя отчет о посещающих меня мыслях. Возможно, во всем, что я сумею тебе поведать, не будет ни особой связности, ни особой новизны, но вини в этом только себя. Ты сам того хотел.
Мы с тобой друзья с детства, нас воспитывали вместе; жизни наши издавна переплелись, и мы привыкли поверять друг другу самые потаенные мысли. Потому-то я могу, не краснея, делиться с тобой всеми глупостями, которые посещают мой праздный ум; я не добавлю и не вычеркну ни единого слова: в беседе с тобой я отбрасываю самолюбие. Кроме того, я ни в чем не погрешу против истины — даже в самых незначительных и постыдных подробностях; уж перед тобой-то я прихорашиваться не стану.
Под саваном тоскливого изнеможения и равнодушия, о которых я тебе сейчас толковал, подчас шевелится некая мысль, не мертвая, а скорее оцепенелая, и я не всегда пребываю в сладостном и печальном покое, даруемом меланхолией. Приступы былого недуга вновь посещают меня, и я вновь впадаю в прежнее беспокойство. Эти беспричинные бури и бесцельные порывы изнурительнее всего на свете. Последние дни я, хоть как всегда и не занят никакими делами, однако встаю очень рано, до рассвета: мне все чудится, что я должен спешить и что мне никак не достанет времени на все, что нужно; одеваюсь я второпях, словно дом горит; натягиваю на себя первую попавшуюся одежду и горюю о каждой потерянной минуте. Если бы кто-нибудь меня видел, то решил бы, что я отправляюсь на любовное свидание или за деньгами. Ничего подобного. Я сам не знаю, куда пойду, но чувствую, что должен идти, а если останусь дома — я погиб. Мне чудится, что меня зовут с улицы, что судьба моя в эту самую секунду проходит мимо, и главный вопрос моей жизни вот-вот разрешится.
Я спускаюсь, растерянный и смятенный; платье мое в беспорядке, волосы всклокочены; люди при виде меня оборачиваются и смеются; они принимают меня за юного повесу, который провел ночь в таверне или в ином злачном месте. Я и в самом деле пьян, хоть не пил ни капли, и даже походкой напоминаю пьяницу: то плетусь, то почти бегу. Я слоняюсь по улицам, как пес, потерявший хозяина, рыскаю тут и там, меня снедает постоянная тревога, я все время настороже, оборачиваюсь на малейший шум, проталкиваюсь сквозь всякую толпу, не придавая значения грубым отповедям тех, кого задеваю, и гляжу вокруг так остро, как обыкновенно у меня не бывает. Потом внезапно мне делается ясно, что я ошибся: это не здесь, надо идти дальше, на другой конец города, понятия не имею куда. И я бросаюсь прочь, словно черт наступает мне на пятки. Я лечу, почти не касаясь земли, и вешу не больше унции. Наверно, я в самом деле выгляжу чудаком: лицо искажено заботой и гневом, руки жестикулируют, с губ срываются бессвязные восклицания. Глядя на себя со стороны, я готов расхохотаться себе в лицо, но уверяю тебя, это не мешает мне при первом удобном случае вновь приняться за старое.
Если бы меня спросили, почему я так бегу, я б наверняка весьма затруднился бы ответить. Нельзя сказать, что я спешу добраться до места: ведь я никуда не направляюсь. И не то что я боюсь опоздать: ведь я не слежу за временем. Никто меня не ждет, и у меня нет никаких причин для спешки.
Быть может, я безотчетно, подгоняемый смутным инстинктом, ищу предмет, достойный любви, приключение, женщину, удачу, что-то такое, чего недостает мне в жизни? Быть может, мое существование жаждет полноты? Быть может, меня гонит желание вырваться из своих четырех стен, из своего я, и мой удел наскучил мне, и я томлюсь по чему-то другому? Пожалуй, одно из этих объяснений придется в пору, а то и все они вместе. Так или иначе, состояние мое весьма тягостно: это судорожное возбуждение, которое обычно сменяется полнейшим упадком сил.
Мне часто мерещится, что, выйди я на час раньше или шагай быстрее, я поспел бы вовремя; что, пока я спешил по вот этой улице, на соседней промелькнуло то, что я ищу, и если бы не затор среди экипажей, я бы не упустил то, за чем гонюсь наудачу уже столько времени. Ты не можешь вообразить, в какое великое уныние и в какое глубокое отчаяние я впадаю, когда вижу, что все мои усилия ни к чему не ведут, что молодость моя проходит, а никакие новые дали передо мной не открываются; тогда все мои беспредметные страсти глухо ропщут у меня в груди и, не находя другой пищи, пожирают одна другую, как хищники в зверинце, которых сторож забыл покормить. Вопреки подспудным, глухим разочарованиям, вседневно меня настигающим, я чувствую, что какая-то частица моего существа сопротивляется и не желает умирать. Надежды у меня нет: чтобы надеяться, нужно чего-то хотеть, нужно решительно и страстно желать, чтобы произошло именно то, а не это. Я ничего не желаю, потому что желаю всего на свете. Я ни на что не надеюсь, вернее, я уже перестал надеяться — это слишком глупо, и мне глубоко безразлично, так или этак обернется дело. Я жду… Чего? Не знаю, но жду.
Такое трепетное, нетерпеливое ожидание, исполненное потрясений и нервной дрожи, знакомо любовнику, ждущему женщину… Но ничто не происходит, и я впадаю в ярость или разражаюсь слезами. Я жду, что небо разверзнется, и ко мне слетит ангел, который принесет мне откровение; что грянет революция и меня возведут на трон; что мадонна Рафаэля сойдет с холста и меня обнимет; что родственники, которых у меня нет, умрут и оставят мне такое наследство, от которого фантазия моя поплыла бы вдаль по золотым рекам; что меня подхватит гиппогриф и унесет в неведомые края… Но каковы бы ни были мои ожидания, в них, разумеется, нет ничего обыденного, ничего привычного.
Доходит до того, что, вернувшись к себе домой, я никогда не забываю спросить: «Никто не приходил? Нет ли мне писем? Или каких-нибудь новостей?» Я прекрасно знаю, что ничего этого нет и быть не может. Но все равно: я каждый раз бываю безмерно удивлен и разочарован, когда слышу обычный ответ: «Нет, сударь, совершенно ничего».
Время от времени, правда, это бывает редко, мечты мои приобретают большую определенность. Я надеюсь увидать прелестную женщину; я не знаю ее, и она меня не знает; мы повстречаемся с ней в театре или в церкви, и она нисколько не будет меня опасаться. И я обегаю весь дом, отворяю все двери и — пускай это кажется безумием, в котором я почти не смею признаться, — я надеюсь, что она пришла, что она уже здесь. Не то чтобы я был настолько самонадеян. Самонадеянности во мне так мало, что я часто узнавал от людей о нежном чувстве, которое питает ко мне та или иная дама, в то время как сам я полагал, что она ко мне совершенно равнодушна и не обращает на меня никакого внимания. Дело совсем в другом.
Когда я не оглушен тоской и разочарованием, душа моя пробуждается и обретает былую пылкость. Я надеюсь, я люблю, я желаю, и желания мои так неистовы, что мне кажется, будто они вот-вот притянут к себе все, что мне угодно, подобно сверхмощному магниту, привлекающему к себе кусочки железа, как бы далеко они ни находились. Вот почему я жду всего, что мне желанно, вместо того чтобы пуститься на поиски, и нередко пренебрегаю самыми благоприятными возможностями, которые открываются передо мной. Другой на моем месте написал бы кумиру своего сердца страстное любовное письмо или постарался сблизиться с нею. А я спрашиваю у гонца ответ на письмо, которого не писал, и трачу время на то, что в мыслях выстраиваю самые чудесные обстоятельства, которые помогли бы мне предстать перед любимой женщиной в наиболее неожиданном и благоприятном свете. Изо всех стратагем, которые я изобретаю, чтобы приблизиться к ней и открыть свою страсть, можно было бы составить том толще и занимательней, чем «Стратагемы» Полибия. А между тем довольно было бы сказать кому-нибудь из моих друзей: «Представьте меня госпоже такой-то», — и заготовить комплимент из области мифологии, проникнутый подобающим восхищением.