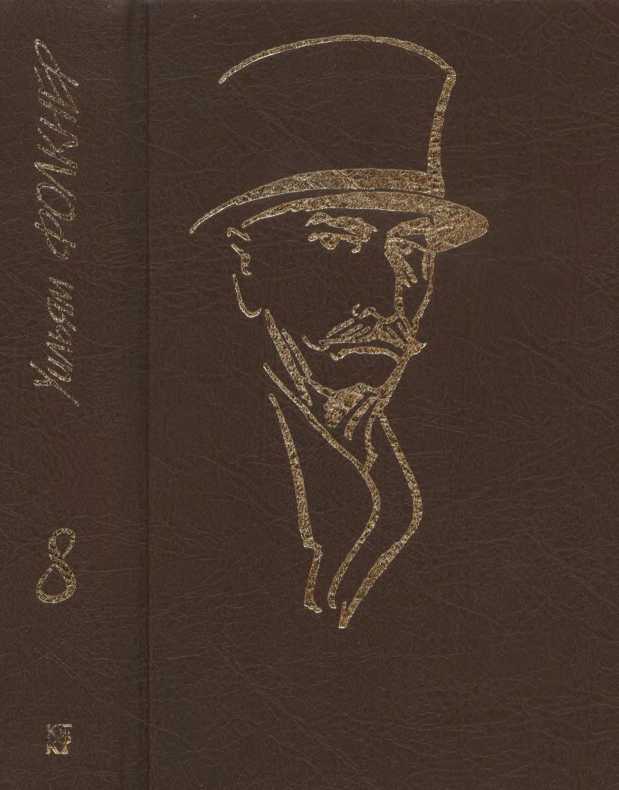обстановку в Джефферсон и сама обставлю ваш дом. Понравится — купите. Не понравится — погружу и увезу сюда, а с вас не возьму ни цента».
— Понятно, — сказал я. — А потом что?
— Вот и все, — сказала она. — Ваш кофе остыл. Сейчас принесу другую чашку. — И уже привстала, но я ее остановил.
— Когда это было? — сказал я.
— Четыре года назад, — сказала она. — Когда он купил этот дом.
— Купил дом? — сказал я. — Четыре года назад? То есть когда он стал вице-президентом банка!
— Да, — сказала она. — Накануне того дня, как об этом объявили. Сейчас принесу другую чашку.
— Не хочу я кофе! — сказал я, повторяя про себя «Флем Сноупс, Флем Сноупс», пока я вдруг не сказал, не крикнул: — Ничего я не хочу! Мне страшно! — А потом переспросил: — Что? — И она повторила:
— Хотите сигарету? — И я и эту штуку узнал: ящичек из поддельного серебра, к нему полагалась бы такая же зажигалка, но она вынула из ящичка с сигаретами простую кухонную спичку. — Линда говорит, что вы курите тростниковую трубку. Закуривайте, если хотите.
— Нет, — сказал я. — Ничего не хочу. Но Флем Сноупс, — сказал я. — Флем Сноупс!
— Да, — сказала она. — Не я запрещаю ей уезжать из Джефферсона, в колледж.
— Но почему? — сказал я. — Ведь она даже не его… Он даже не ее… простите меня! Но вы сами понимаете, что это настолько срочно, настолько серьезно, что нам не до…
— Не до церемоний? — сказала она. Нет, я не пошевельнулся, я сидел и смотрел, как она наклонилась, и чиркнула спичкой о подошву туфли, и закурила сигарету.
— Не до чего, — сказал я. — Не до чего, кроме нее. Рэтлиф что-то пытался объяснить мне сегодня утром, но я не стал слушать. Может быть, он говорил то же, что и вы, минуту назад, а я не слушал, не хотел слушать? Про эту мебель. Про тот день в магазине. Когда он сам не знал, чего он хочет, потому что неважно было, что это такое, несущественно: важно, что ему это нужно, необходимо, что он должен это иметь, намерен приобрести, все равно какой ценой, все равно, кто от этого потеряет, кто будет огорчаться или горевать. Ему было нужно то, что совершенно точно подошло бы тому человеку, каким он станет на следующий день, когда объявят о его назначении: и жена вице-президента, и его дочь тоже входят в обстановку дома вице-президента вместе с остальной мебелью. Вы об этом хотели мне рассказать?
— Примерно что-то в этом роде, — сказала она.
— Примерно что-то в этом роде? — сказал я. — Конечно, это еще не все. Это далеко не все. Я уж не говорю о деньгах, потому что каждый, кто видел на нем этот галстук бабочкой, сразу поймет, что он из своих денег и цента не истратит на плацкартный билет, чтобы послать в школу даже своего собственного ребенка, а не то что чужого, незакон… — Но тут я умолк. Она продолжала курить, глядя на кончик сигареты, но не промолчала:
— Договаривайте! — сказала она. — Незаконнорожденного?
— Я перед вами виноват, — сказал я.
— Почему? — сказала она.
— Надо, чтобы я чувствовал себя виноватым. Может быть, я и почувствовал бы, если бы и вы чувствовали себя так или если бы вы хотя бы сделали вид…
— Продолжайте, — сказала она. — Значит, не из-за денег.
— Потому что он, то есть вы, могли бы взять деньги у дядюшки Билла, уж не говоря о том, что я мог бы дать денег, в виде стипендии. А может быть, и так? Может быть, он не выносит мысли, что даже чужие деньги, деньги его смертельного врага, а дядя Билл наверно для него враг, можно швырнуть на то, чтобы послать ребенка учиться в чужой штат, когда он каждый год платит налоги для поддержания миссисипских школ.
— Говорите, — повторила она. — Не из-за денег.
— Значит, все в конце концов сводится к этой картинке из мебельного каталога, скопированной в ярких красках с какой-нибудь чарльстаунской, или ричмондской, лонг-айлендской или бостонской фотографии, — значит, лишь бы все было в таком виде, в каком, по мнению Флема Сноупса, он должен предстать перед общественным мнением Йокнапатофского округа. Пока он был всего-навсего владельцем захудалого ресторанчика, можно было, чтобы во всей Французовой Балке (и во всем Джефферсоне, и во всех его окрестностях, по милости Рэтлифа и ему подобных) люди знали, что ребенок, носящий его имя, на самом деле — м-м…
— Незаконнорожденный, — сказала она опять.
— Ну, хорошо, — сказал я. Но сам не повторил это слово. — И даже когда он продал ресторан с недурной прибылью и стал смотрителем электростанции, это тоже не имело значения. И даже потом, когда он не занимал общественного поста, а был просто частным ростовщиком и хапугой, и тихо занимался своими делами; не говоря уж о том, что прошло десять или двенадцать лет, а за это время даже он мог поверить, что джефферсонцы настолько добры по отношению к двенадцати-тринадцатилетнему ребенку, к девочке, что не станут отравлять ей жизнь всякой бесполезной и бессмысленной информацией. Но потом он стал вице-президентом банка, и вдруг теперь вмешивается какой-то посторонний и уговаривает этого ребенка уехать учиться в другой штат и провести хотя бы три месяца до рождественских каникул среди молодых людей, чьи отцы не берут у него денег в долг, и поэтому они вовсе не обязаны молчать и любой из этих юнцов может ей открыть тайну, которую любой ценой необходимо скрыть. Значит, вот в чем дело, — сказал я, но она и тут не взглянула на меня: спокойно и неторопливо она курила, следя за медленно расплывающимся дымком. — Значит, в конце концов вы виноваты, — сказал я. — Он запретил ей уезжать из Джефферсона и вымогательством заставил вас поддержать его, грозя вам тем, чего он сам боится: тем, что расскажет ей о позорном прошлом ее матери и о том, что она незаконнорожденная. Нет, знаете ли, это палка о двух концах. Попросите денег у вашего отца или возьмите у меня и отошлите ее подальше из Джефферсона, иначе я сам ей расскажу, кто она такая, иди кем она никогда не была.
— А вы думаете, она вам поверит? — сказала она.
— Что? — сказал я. — Не поверит? Не поверит мне? Да ей не нужно даже смотреться в зеркало, чтобы сравнить и отречься, ей достаточно было прожить рядом с ним эти семнадцать лет. Что может быть для нее лучше, чем поверить мне, поверить любому, ухватиться за то, что скажут люди, у которых хватит сострадания объяснить ей, что она не