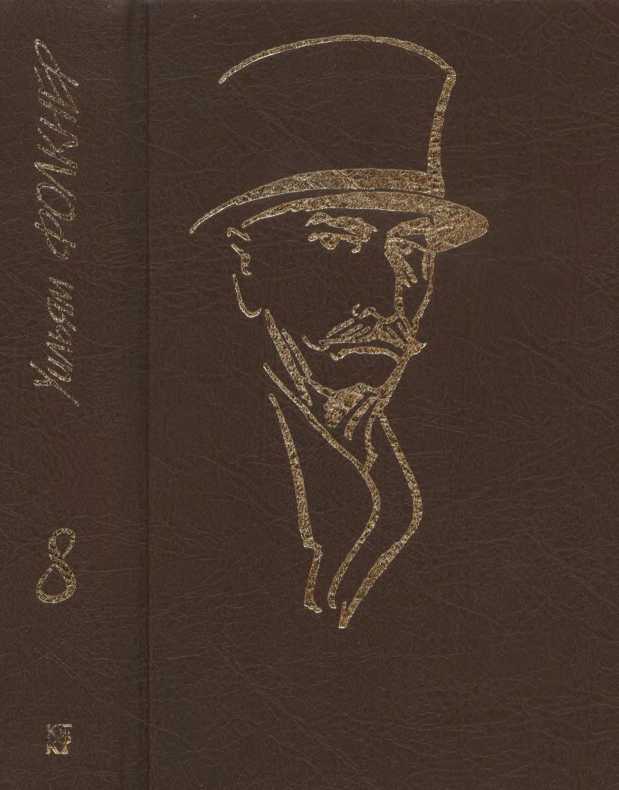даже не домашнее платье, — просто обыкновенное ситцевое платье, но все же, хотя ей уже было тридцать пять, нет, тридцать шесть, если вести счет, как Рэтлиф, со дня того великолепного падения — все же и это платье, как и то, в котором она впервые прошлась по площади шестнадцать лет назад, казалось не только надетым в отчаянной спешке, чтобы прикрыть это трепещущее тело, нет, оно словно прильнуло к ней в покорном обожании, восклицая каждой складкой текучей ткани: «Эвое! Эвое!» [12]
Да, конечно, и гостиная была точно такая же, как вестибюль, и все это было точно такое, какое я уже где-то видел, но не успел вспомнить где. Она уже спросила: «Хотите кофе?» — и я тут же увидал сервиз (не серебряный, а из того накладного металла, про который и в рекламах не говорится, что он лучше серебра, но что он просто современнее. Современный металл: в этих словах — намек, что серебро тоже вещь неплохая и даже подходящая для тех людей, кто еще держится за газовые лампы и конные экипажи) на низком столике, а у столика — два кресла, и я подумал: «Теперь я проиграл», — даже если бы она вышла ко мне в мешке или в дерюге. — Потом подумал: «Значит, дело действительно серьезное», — потому что все это — кофе, низенький столик, интимно придвинутые кресла — должно было воздействовать не на железы внутренней секреции, даже не на желудок, а на утонченную душу, во всяком случае на душу, которая жаждет быть утонченной…
— Благодарю, — сказал я, подождал, пока она сядет, и тоже сел. — Только разрешите полюбопытствовать — зачем? Ведь нам перемирие не нужно, — я уж и так обезоружен.
— Значит, вы пришли воевать? — сказала она, наливая кофе.
— Как же я могу, без оружия? — сказал я, глядя на нее: склоненная голова с небрежным, почти растрепанным узлом волос, рука, которая могла бы качать колыбель героя-воина или даже подхватить меч, выпавший из рук его отца, и эта рука наливает будничный (наверно, у них и кофе плохой) напиток из будничного, под серебро, дешевого кофейника — и все это тут, в таком доме, в такой комнате, — и вдруг я вспомнил, где я видел раньше такие комнаты, такие прихожие. На фотографии, на тех фотографиях, скажем, из журнала «Город и усадьба» [13], под которыми написано «Американский интерьер», их еще перепечатывают в красках для всяких каталогов мебельных магазинов, со специальной подписью: «Это не копия, и не репродукция. Это наш образец обстановки, которую вы можете заказать только у нас по своему вкусу». — Большое спасибо, — сказал я. — Мне без сливок. Только сахару. А ведь все это на вас непохоже, — сказал я.
— Что именно? — спросила она.
— Эта комната. Ваш дом. — Но почему-то я сперва даже не поверил, что я правильно ее услышал:
— Это не я. Это мой муж.
— Простите, не понял, — сказал я.
— Обстановку выбирал мой муж.
— Флем? — крикнул я. — Флем Сноупс? — А она смотрит на меня без удивления, без испуга: без всякого выражения, просто ждет, когда кончится эта вспышка: и не только от Маккэррона унаследовала Линда такие глаза, у нее только цвет волос был целиком от него. — Флем Сноупс! — повторил я. — Флем, Флем Сноупс!
— Да. Мы съездили в Мемфис. Он точно знал, чего хочет. Нет, это неверно. Он еще не знал. Он только знал, что ему что-то нужно, что он должен что-то иметь. Вы меня понимаете?
— Понимаю, — сказал я. — Очень хорошо понимаю. Вы поехали в Мемфис.
— Да, — сказала она. — И вот для чего: надо было кого-то найти, кто мог бы ему сказать, что именно надо купить. Он уже знал, в какой магазин заехать. И он сразу у них спросил: «Если человек у вас ничего не собирается покупать, сколько вы с него возьмете за то, что он с вами поговорит?» Понимаете, тут он не торговлей занимался. Когда ведешь торговлю, скотом или земельными участками, чем угодно, то тут можно торговаться, а можно и не торговаться, все зависит от обстоятельств; никто вас не заставляет покупать или продавать; перестали торговаться, расстались — и можете остаться при своем, как вначале. А тут было не то. Ему надо было что-то получить, и он знал, что ему это необходимо: только он еще не знал, что именно, так что ему приходилось не только зависеть от хозяина магазина, ждать, что он ему подскажет, но он еще зависел и от честности того, кто ему продаст все, что ему надо, потому что он не знал ни цен, ни стоимости этих вещей, а знал только одно: ему это необходимо. Вы и это понимаете, да?
— Да, да, — сказал я. — Понимаю. А дальше что?
— Ему нужно было именно это, именно для такого человека, каким он стал. И вот тут хозяин магазина сказал: «Кажется, я вас понял. Сначала вы служили приказчиком в деревенской лавке. Потом вы переехали в город и стали хозяином ресторана. Теперь вы вице-президент банка. Человек за короткое время так далеко пошел и на этом не остановится, — значит, надо, чтобы всякий, кто войдет к нему в дом, это понял. Да, теперь я знаю, что вам нужно». — А Флем говорит: «Нет». — «Не обязательно дорогое, — говорит хозяин, — но чтоб видно было преуспевание». А Флем опять говорит: «Нет». «Отлично, — говорит хозяин. — Значит, что-нибудь старинное», — и ведет нас в другое помещение, показывает, о чем он говорит. «Можно взять, например, вот эту штуку и придать ей еще более старинный вид». А Флем говорит: «Зачем?». И тот говорит: «Как будто фамильное. От дедушки». А Флем говорит: «Дед у меня был, дед есть у каждого. Не знаю, кто он был, но знаю, что у него никогда не хватило бы мебели и на одну комнату, не то что на целый дом. А кроме того, я никого обманывать не собираюсь. Только дурак старается обмануть умных люден, а тот, кому нужно обманывать дураков, сам дурак». И тут этот хозяин говорит «обождите» и идет к телефону. Мы подождали недолго, потом пришла эта женщина. Жена хозяина. Она мне говорит: «А вам чего бы хотелось?» — а я говорю: «Мне все равно», — и она говорит: «Что?» — а я опять повторяю, и тут она смотрит на Флема, и я вижу, как они долго смотрят друг на друга. И потом она говорит, не громко, как ее муж, а так тихо, спокойно: «Знаю», — и тут Флем говорит: «Погодите. Сколько это будет стоить?» И она говорит: «Вы коммерсант. Я заключу с вами сделку. Я привезу всю