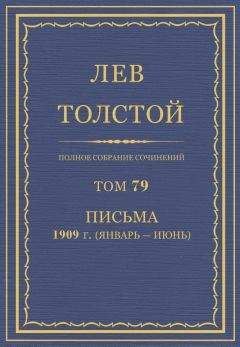* 49. Л. Г. Киндсфатер.
1909 г. Января 29. Я. П.
Ясная Поляна. 29 янв. 09.
Лидия Георгиевна,
Человек не может изменить условий внешних (это и не нужно стараться делать), но может бесконечно изменять себя, переходя всё более и более от эгоистической жизни к любовной, приучая себя любить всех.
Эта же внутренняя деятельность изменяет и внешние условия. Посылаю вам несколько книг, из которых вам яснее будут мои мысли
Печатается по дубликату подлинника, вклеенному в копировальную книгу № 8, л. 473.
Ответ на письмо сельской учительницы из посада Дубовка, Саратовской губ., от 26 января (почт. шт.), в котором она писала о неудовлетворенности своей жизнью и работой и спрашивала: «Есть ли человек сам создатель тех условий, которые его так связывают, что он не в состоянии освободиться, и в его ли власти изменить эти условия?»
1909 г. Января 29. Я. П.
Ясная Поляна. 29 января 09 г.
Очень благодарю вас за письмо и милую характеристику, невольно вызывающую к ним любовь и уважение, и кухарки и дворника. Передайте им, пожалуйста, мой привет, особенно дворнику. Посылаю вам несколько моих книг, чтобы вы передали их ему от меня.
Делая характеристику кухарки и дворника, вы невольно сделали и характеристику и самой себе — человека, ищущего и видящего в других всё доброе.
Искренно полюбивший вас за это
Лев Толстой.
Печатается по копировальной книге № 8, л. 474 (первый абзац письма написан на машинке; со второго абзаца и до конца — рукой H. Н. Гусева).
Ответ на письмо Тарасовой (сведений о ней не имеется) из Москвы от 25 января, в котором она посылала Толстому стихотворение, написанное ее дворником ко дню именин ее кухарки, старушки, всегда упрекавшей Толстого за его «безверие» и за то, что он «испортил А. П. Чехова», который стал «таким же нехристем», как и Толстой. Свое стихотворение дворник приложил к коробке карамели «Ясная Поляна». Текст его читается:
«Михайловна! Толстова
(Хоть он старик святой)
Бранить всегда готова
Ты бранью площадной.
Об нем ты мало знаешь,
И лишь похвалит кто,
Ты и того ругаешь,
Не ведая за что.
И вот, чтоб ты узнала,
Как сладок он и мил,
И больше не ругала,
Я карамель купил.
Отведав карамели
Толстовской, может быть.
Браня его доселе,
Потом начнешь хвалить».
В неопубликованном дневнике Д. П. Маковицкого 28 января 1909 г. записано: «Л. Н. попросил Н. Н. Гусева прочесть вслух полученное сегодня и доставившее ему большое удовольствие письмо московской барыни, в котором она описывает дворника, живущего у нее. Это человек, ведущий скромную, тихую жизнь, много читает, в том числе и Л. Н-ча, которого очень любит. Кухарка, живущая у них в доме, старушка, напротив, очень бранит Л. Н-ча за то, что он отрекся от православной веры. Дворник подарил ей на именины коробку конфет «Ясная Поляна» и с ней вместе свои стихи».
51—52. В. Г. Черткову от 30 и 31 января.
1909 г. Январь. Я. П.
Да будет, как ты желаешь, милая Оля. Пусть будут твои дни постные. Хотел бы нынче быть у вас, да нехороша погода.
Л. Т.
Датируется по книге записей писем, полученных Толстым. Письмо O.K. Толстой зарегистрировано среди писем, отвеченных в январе 1909 г.
Ольга Константиновна Толстая, рожд. Дитерихс (1872—1951) — младшая сестра А. К. Чертковой, первая жена A. Л. Толстого (развелись в 1906 г.).
Ответ на письмо О. К. Толстой (без даты), в котором она просила разрешить ей приезжать в Ясную Поляну два раза в неделю (в «постные дни» — среду и пятницу) и предупредить об этом Андрея Львовича, чтобы избежать неприятной для нее встречи с ним и его второй женой.
1909 г. Февраля 1. Я. П.
Всей душой сочувствую вам, милый Мих. Вас. И сам для себя не могу не жалеть о потере близкого мне по душе и прекрасного человека, каким была Ан. Максимовна.1
Как ни близка всем нам смерть, а особенно в мои года мне, уход из жизни близкого и дорогого человека всегда вызывает более серьезное, строгое отношение к остатку своей жизни. Помогай вам бог извлечь из этой тяжелой для вас потери — также и для ваших славных детей — всё то возвышенное, что вызовет в душе это всегда странное, как будто новое событие: смерть дорогого существа.
Лев Толстой.
1 февр.1909.
Печатается по копировальной книге № 8, л. 478.
Михаил Васильевич Булыгин (1863—1943) — бывший гвардейский офицер, вышедший в отставку под влиянием взглядов Толстого; владелец хутора Хатунка, в 15 км. от Ясной Поляны; близкий знакомый Толстого.
Ответ на письмо от 1 февраля, в котором Булыгин извещал Толстого о смерти своей жены.
1 Анна Максимовна, рожд. Игнатьева (р. 1862), с 1886 г. «гражданская» жена М. В. Булыгина.
1909 г. Января 29 — февраля 4. Я. П.
4 февраля 1909 г.
Ясная Поляна.
Н. А.,
Одновременно с вашим я получил длинное письмо одной дамы,1 которая упрекает меня за разрушение, как она говорит, веры и уговаривает вернуться к церковной вере, которую она считает истинной. Она просит меня ответить ей тремя словами: «я понял вас». Боюсь, что не буду в состоянии ответить ей желаемыми ей словами, так как не понимаю, главное, поводов, побудивших ее, а также и многих и многих как духовных, так и не духовных лиц обращаться ко мне с такими же увещаниями.
Как я писал недавно тому почтенному священнику,2 который вчера тоже прислал мне много разных книг и статей, долженствующих вернуть меня к православию, я думаю, что самое лучшее, что мы можем делать по отношению к другим людям, это то, чтобы предоставить богу судить о том, какое отношение к нему угоднее ему, самим же не переставая стараться только о том, чтобы всё больше и больше любить друг друга. Так что я никак не понимаю тех с разных сторон обращенных ко мне увещаний, даже требований о том, чтобы я понимал бога и свое отношение к нему не так, как это мне свойственно и нужно, а так, как его понимают другие люди. Увещания эти, обращенные ко мне, для меня особенно удивительны, потому что то учение, которое мне предлагается, не есть какое-нибудь новое, не известное мне учение, а есть то самое, на изучение которого я употребил, как умел, все свои силы и которое, хотя и с большими душевными страданиями, я все-таки должен был оставить. И вот теперь, когда я уже стою одной ногой в гробу и с часу на час ожидаю смерти и, следовательно, и без посторонних увещеваний, казалось бы, должен бы был серьезно подумать о вопросах жизни и смерти, души и бога, я с разных сторон всё чаще и чаще получаю личные и письменные увещания о том, чтобы я опять принял то, от чего отошел с болью в сердце и чего так же не могу принять, как не могу допустить того, чтобы 2 × 2 было 3, а не 4.
Что же касается до того, что не надо, как вы говорите, нарушать чужую веру, — я только прибавлю, если она искренна, — то я с вами вполне согласен. Вы говорите: «Не всё ли равно, во что я верую, если мне тепло и тепло мое обусловливается одним фактом веры. Если, глядя на уютное пламя свечи, я хотя на один хрупкий миг сделаюсь не желчным (желчь — мать неблаговоления, нелюбви), то зачем я буду ратовать за уничтожение свеч? Пусть суеверие всё, во что я верю; у вас вера простая, у меня сложная; вам нужно одно памятование о боге и только, мне нужна лестовка и двуперстное сложение, милостыня, мощи. Зачем вы разрушаете мою веру?»
Так что и вы, как и та дама, о которой я упомянул, и очень и очень многие люди, так же упрекаете меня за то, что я, как бы из удовольствия отрицать, отрицаю те самые формы, от которых вам и столь многим тепло и которые вам и столь многим нужны. Но ведь если я отрицаю то, что отрицаю, то делаю я это не потому, что это отрицание доставляет мне удовольствие, а потому, что не могу поступать иначе. В наше время людям, хотя несколько просвещенным, нельзя притворяться, что они не знают того, что есть 500 миллионов китайцев и японцев, 400 миллионов индусов, турок, персов, татар, исповедывавших веками и теперь исповедующих совершенно другие веры, чем наша. (Неужели мы одни такие счастливцы, что исповедуем одну истинную не только общехристианскую, а православную, старообрядческую, католическую, лютеранскую религию, а те миллиарды людей погибли и погибнут?)
Не можем мы также притворяться, что не знаем всего того, что высказано было о смысле и назначении человеческой жизни, т. е. религии, Сократом, Марком Аврелием, Буддой, Лаотзе, Магометом, Лютером, Спинозой, Кантом, Руссо, Ламенэ, Эмерсоном, Чанингом, Сковородой, Рескиным и многими и многими другими. Я упоминаю только о религиозных писателях, умалчивая об отрицателях религии, вроде Вольтера. Ведь хорошо духовным лицам, воспитанникам академии игнорировать всё, что сделано человечеством в области религиозной: они, несчастные, поставлены в почти безвыходное положение, — и чем выше, тем хуже, — при котором должны утверждать, как несомненную истину, то, во что большинство из них уже не может верить и что веками уже пережито человечеством.