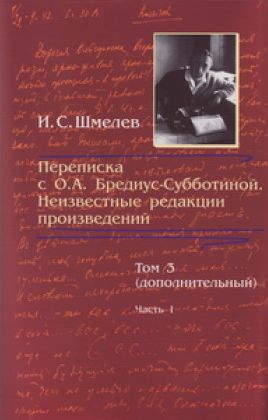а я не заслужила. Оттого все и писала так.
Пишите мне все, все. Не смущайтесь.
Как мучает, что Вы больны опять. Родной мой, я только сегодня хотела спросить Вас, курите Вы или нет, и хотела просить беречься. А Вы уж и ответили… Берегитесь! Умоляю. Я, увы, сплю плохо. И чувствую себя неважно. Пройдет. Уеду скоро. Не к Вам, а в лес. К Вам не выходит. Но в сердце знаю, что увижу, приеду. Я собиралась к одним знакомым в Meudon’e29 — было бы легче для визы, — но так стесненно. Мое бы время я только с Вами делить хотела! Ну, посмотрим. Будет так, — как нужно. Бог укажет…
[На полях: ] Мне показалось вдруг, что Вы хотели бы услышать от меня словами сказанное, прямо… И я хочу того же. Хочу сказать, что _л_ю_б_л_ю_ Вас. Милый, чудный, мой! Обнимаю Вас долго, долго. Здоровы будьте! Благословляю! Ваша О.
Болею за бабушку30. Не согласна по-прежнему в оценке хирурга. Я его знаю. Он такой же мерзавец. Вы коснулись этого — я не хотела писать. Все, все я знаю, ничто мне не ново. И потому — еще ужасней.
Пишите же! Пишите скорее…
Посылаю духи мои вот здесь [51], чтобы почувствовал меня.
Радость моя, солнышко мое!
Что, что смогу я сказать еще?! —
17
О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву
25. IX.41
С Ангелом! Мой светлый друг, дорогой мой, именинник мой чудесный!
Как удивительно: — во славу Иоанна _Б_о_г_о_с_л_о_в_а!
Несу Вам столько ласки, любви и нежности, — молитвы за Вас и с Вами вместе!..
Будьте бодры и радостны, и прежде всего здоровы!
Умоляю — берегитесь! Я очень о Вас волнуюсь. Как я хотела бы, чтоб было все у Вас ясно, радостно, успешно!..
На этот день и дальше… на много, много времени, до окончанья труда желаю, чтобы «Пути Небесные» легко и радостно творились. И как молю я Бога, чтобы открыл он Вам (и мне!) _П_у_т_и!
Послушайте: — как просто, как хорошо и ясно: все в Божьей воле!
Никогда не надо муки! Он все знает и всех хранит! Мне хочется к Дню ангела сказать Вам, что постараюсь, что _х_о_ч_у_ принять и потрудиться над Божьим Даром. Я верю, что Вы этот дар открыли воистину. Для Вас — начну! — Я грешными устами петь Господу еще очень недостойна. Я пропою Вам, т. к. полна я Вами. И эта песня святая будет! Из сердца, из любви, и потому — достойна!
Но я не знаю, как приняться. Как надо мне покоя! Как я взволнована, как трудно связно думать! Я жду Ваших писем из «пути» — их нет еще. Я жду в них найти ответы.
Как я счастлива всем тем, что Вы мне рассказать-открыть хотите! Я не могу словами выразить.
Из такого же страха «утратить дорогое», как это у Вас было, — из этих же самых фантазий, — я и надумала все, что было в письмах.
Никогда я не хотела вызвать на лишние подтверждения «похвал», — я просто не могла поверить, что Вы, не видя меня, могли так мной увлечься.
Боязнь Вашего разочарования остерегала меня самою увлечься и поверить. Ведь мы же не видались!
Поверьте, что если б все я от Вас после встречи услыхала, — то безоговорочно счастливая все приняла бы с полуслова! П_о_н_я_т_н_о?
Но больше я не хочу об этом! —
Как я хотела бы послушать с Вами наших, любимых: — Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова… Хоть раз бы услыхать еще «Евгения Онегина», «Снегурочку», «Садко», «Князя Игоря»… «Бориса Годунова»31… Здесь нет ведь оперы… В России я много в опере бывала. Обожала…
Из чужих люблю Шопена, Шуберта (все «Ш»!), Моцарта.
Рояль люблю я очень, больше скрипки, хоть та и певуча. Рояль — чудесно!! Какой блистательный Шопен!
Бетховена я слушаю серьезно, как детка-пай, и ручки на колешках, в смиренном слухе… А вот Шопену, Моцарту и Шуберту я б улыбнулась сердцем, кивнула бы глазами, бросила бы розы…
Не потому ли что в сердце… Шуберт, «Экспромт 4»32… и Волга… Шопена «Вальс-бриллиант»33 и… та же… Волга..? Я очень люблю музыку! Ах, наши! Наши бессмертные, чудесные! И наш Шаляпин! Вы любите его? Нельзя любить — он наша гордость! Я не согласна в этом с моим названным папашей, который многое Шаляпину в вину вменяет34… За гений все ему, (Ш[аляпину]), прощаю! — Вы вспомнили о девочке Серова. Да, она чудесна! И еще больше я люблю его девочку за белой скатертью с яблоками35. Чудесная…
Вы знаете, в душе, где-то глубоко-глубоко у меня искусство не делится на разновидность… Так я духовно вижу, сливаю как бы во-едино искусство Репина, Мусоргского и Достоевского… А Левитан чудесный и Антон Павлович Чехов… Похожи? Правда? А Вагнер с его великим, грузным, но тяжелым гением почему-то рядом с Врубелем. Как давит Вагнер своим величием нас всех букашек! Конечно, гений, — но вот такое чувство. А Врубель?
Серова в некотором роде я ставлю рядом с Алексеем Толстым. Как все они близки… Как дороги, как вечны! У Достоевского читаю теперь «Дневник писателя», и снова и снова восторгаюсь… Как верно он сказал о чувствовании счастья у нас, у русских… Какой великий он! И какой _н_а_ш! Толстого Л. Н. — вижу теперь совсем другими глазами. И… не люблю. Я исключаю некоторое из «Войны и мира», — есть там непреложно-вечное, божественно, но в целом — нет, в целом я Толстого больше не люблю. Мне никогда не нравилась его «Анна Каренина». Особенно в наше жуткое время непонятна эта «трагедия» во главе угла. И почему она — героиня? М. б. я профан, — но ничего не сделать. Прежде я очень любила Толстого.
Тургенев — милый, нежный, какой-то тонкий… как Чайковский… Теперь я многое его иначе чувствую, но все же остается то обаяние… Он долго был моим заветным… Теперь… иначе… конечно…
Давно иначе… Что сказал о Вас И. А.! Как это верно!! И как же он Вас ценит. За это его люблю. И. А. — чудесный. Мне так часто его не хватает. Какое то было счастливое время36: возьмешь телефон и… вот… он! Теперь же, — редко, редко скупые письма. Он мне был вправду за отца. И сколько мне помог советом, поддержкой. Сколько вынул (и как же нежно и бережливо!) яда из моего сердца! И все, все знает… как никто…
Ну, не сердитесь. «Как никто» — ровно ничего не значит. И. А. был многому свидетель — писать или говорить я ему бы ни за