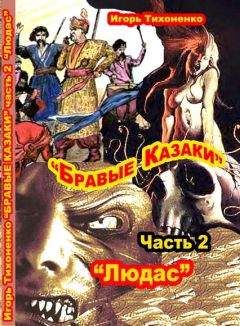— На что вам лишние заботы? В приходе лучше и спокойнее. Гимназия? Что там гимназия? Неподходящее это дело для ксендза.
У старика Васариса о гимназии осталось плохое мнение еще с тех времен, как учился Людас. Ему тогда случалось раза два побывать у директора. До сих пор этот директор стоял перед его глазами как живой: сердитый плешивый господин с реденькой бородкой, в синем вицмундире, полы которого были обрезаны вровень с жилетом, а сзади болтались раздвоенным хвостом. Длинноногий директор широкими шагами мерял комнату и все требовал, чтобы Людаса определили в казенный интернат. И хотя теперь старый Васарис отлично знал, что ксендзы бывают директорами, но былой неприязни к этой должности победить не мог. «Не дело это для ксендза», — и думал и говорил он о таких директорах.
— Почему не дело? — изумился Васарис. — Ведь нынче Литве нужно много образованных людей. Надо и ксендзам браться за эту работу.
— Эх, Литва, Литва!.. — глубоко вздохнул отец, и забота отразилась на его лице. Он уже знал, что именем Литвы прикрывается много дурного, что распоясавшиеся чиновники даже в пьяном виде распевают: «О, Литва, отчизна наша», что зло, творимое именем Литвы, затронуло и духовенство. Старик не осмеливался открыто критиковать ксендзов, но в его сердце скопилось немало горечи и упреков. Он знал, что переодетые в светское платье ксендзы агитируют на митингах, ввязываются в споры и позволяют всяким проходимцам нападать на себя. Даже обедни служат порой в светском платье! А там, в Каунасе, совсем распустились, прямо болото! Есть там ксендзы депутаты и министры, о делах которых он слышал много плохого на этих же митингах. А теперь вот и сын говорит, что хочет ехать в Каунас, стать директором гимназии, и все ради этой Литвы.
Своих мыслей он не сообщил Людасу, но оба почувствовали недовольство, досаду, между ними словно возникло какое-то отчуждение. И отец и сын знали, что не переубедят друг друга, поэтому снова замолчали. Но это молчание было хуже открытого спора. Людас понимал, что отцу надо дать высказаться и потом осторожно перевести разговор на другую тему.
— Так что же, батюшка, вы недовольны Литвой? Своя власть все-таки лучше чужой. Царских жандармов вы уж забыли, но ведь и немцы были живодеры!
Отец отозвался не скоро:
— Да, ничего… жить можно… налоги повысились… Власть как власть. Только там, где прежде сидел один, теперь трое или пятеро, а когда доходит до дела — беда! Народ распустился, и молодежь не по той дороге идет. Еще моду завели одеваться по-городски — обходится дорого, а хочешь что продать, дают полцены…
Долго жаловался старик на новые порядки. Как все люди его поколения, он скептически, недоверчиво относился к «литовской власти» и во всех неполадках винил ее одну. Это глухое недовольство вызывалось более глубокими причинами, чем житейские невзгоды. Сформулировать он его не мог, а если бы смог, то скорее всего выразился бы так: «Мы, старики-крестьяне, не понимаем вас, молодых, и с новыми порядками не свыкнемся. Новая жизнь не оправдала наших надежд. Вера, костел и ксендзы отдаляются от нас и служат не богу, а Литве. Что такое эта Литва, я понимаю плохо. Прежде думал, что это наш край, наша земля и наш народ, а теперь вижу, что это власть, разные партии, президент и чиновники. Они сталкивают друг друга и сажают в тюрьмы, многие воруют, жульничают, берут взятки, обижают свой народ, и все это называется Литвой. А ты, сынок, проваландавшись десять лет на чужбине, хочешь теперь бросить нас, стариков, ради этой новой Литвы!»
Подобными словами мог бы выразить старик свою боль и обиду, и никакие доводы не поколебали бы его убеждений. Сын отчасти понимал, что происходит с отцом, но успокоить его был не в силах. Напротив, чем сильнее ощущал он отцовскую боль, тем больше чувствовал себя виноватым и тем меньше надеялся утешить его. Ведь для этого прежде всего надо было надеть сутану, выбрить тонзуру, осесть в приходе, держать сытых лошадей, завести хорошую экономку, служить по воскресеньям обедню и произносить грозные проповеди с костельной кафедры.
Людасу показалось, что, приближаясь к родному краю, он приближается и к этому идеалу. И вся душа его восстала против него. Он и в первые годы священства осуждал этот идеал. В минуты юношески-восторженных порывов Людас верил, что если будет ксендзом, то уж, конечно, аскетом, скромным виноградарем Христова вертограда. Дальнейшие события и жизнь за границей' показали, что таким ксендзом он быть не может, да и не только таким: ему вообще трудно оставаться ксендзом. Ведь теперь он осуждал не только оппортунизм духовенства, но и его мистический квиетизм. Людас хотел стать не только свободным поэтом, литератором, но и деятельным членом общества, он мечтал служить своему народу и своей стране. И теперь он не изменился: согласовать свои стремления с нормами поведения духовного лица Васарис не мог.
День уже клонился к вечеру, когда, въехав на горку, они увидали родные места. На краю поля одиноко высилась Заревая гора, которую Людас еще издали искал глазами, когда возвращался из семинарии. Теперь она виднелась с другой стороны, на фоне ясного неба, а не мрачных лесов. Людас жадным взором вглядывался в давно не виданные места. Все окружающее стало беднее, непригляднее. Неизменной осталась только Заревая гора, тихая, даже величавая среди этих ровных полей, дорог и деревень. Нет, кажется, и она изменилась. Изощренный глаз путешественника заметил на вершине какие-то неровности, бугры, насыпи.
— А что там, на Заревой горе, батюшка, строится что-нибудь?
— Окопы. Русские через всю гору огромный ров вырыли, до самых изб доходит, а с другой стороны даже до рощицы.
Вот показались избы. Но что с ними стало? Людас не сразу узнал их.
— А где же ивы? — воскликнул он изумленно. Большой аллеи серебристых ив за садом, которая так красиво украшала хутор, оттеняла строения, как не бывало. Они стояли голые, открытые западному ветру.
— Работа германцев, — сквозь зубы процедил отец. — И березняк словно бритвой сбрило.
Вот и родная деревня. Бывало, когда он возвращался из семинарии, каждый приветствовал его — и старый, и малый. Теперь только кое-кто из стариков догадывался, что Васарис привез сына-ксендза, и лениво снимал шапку. Другое время — другие люди, и они его не знают, и он не знает их.
Людас Васарис с трудом разбирался в хаосе своих чувств. Кто он в родном краю? Долгожданный сын? Гость? Или заблудившийся прохожий?
Но во дворе его встретила вся семья с матерью впереди У всех на глазах блестели слезы радости.
V
Утром Людас подошел к окну и увидал, что мать, повесив на изгородь сутану, выбивает и чистит ее. Он оставил эту сутану дома, как ненужную, еще в самом начале войны, когда в последний раз был здесь. Очевидно, мать заботливо хранила ее и, заметив, что в чемодане сына нет другой, принялась чистить. Как же, придется ему в костел ехать, служить обедню.
Увидев, что Людас уже поднялся, она поспешила в горницу с сутаной в руках.
— Хорошо, ксенженька, что вы тогда оставили ее дома. Новую, небось, забыли положить в чемодан.
— Нет, мама, не забыл, просто подумал, что не понадобится. Ведь я погощу у вас недолго и в костеле побывать не успею. Не хочется беспокоить настоятеля. Сегодня погляжу на поля, поговорим обо всем, завтра я хочу побродить по лесу, в пятницу можно навестить дядю Мурмаса, а в субботу я уже должен быть в Каунасе.
Услыхав об этих планах, мать от отчаяния даже руки заломила:
— Вот беда, ксенженька, боюсь-то вам и сказать! Вы так поздно написали, что мы и не успели вас известить о своей затее. А мы, как узнали, что вы приедете, так и пригласили всю родню на заупокойную обедню по шилайняйскому дяде и всем усопшим родичам.
Людас почувствовал, как горячая волна прилила к его лицу, и, не скрывая досады, сказал:
— Ах, мама, надо же вам было делать это без моего ведома! Может, я по какой-нибудь причине не могу отслужить завтра эту обедню.
— И я так говорила, — оправдывалась мать, — да отец уперся, и все. Мол, сын благополучно вернулся, первый раз свидимся с ним, пусть уж будет радость всем родственникам — и живым, и покойникам.
Людас увидел, что мать отерла передником слезы, и дольше возражать был не в силах.
— Ну ничего, мама, что сделано, то сделано. Сутана есть, можно и в костел поехать.
Он еще не знал, как поступит, но одно было ему ясно: противиться родителям и не отслужить панихиды значило бы жестоко оскорбить их и всю родню. Да и какой предлог найти для отказа?
После обеда Людас вышел в поле, поднялся на Заревую гору, улегся на вершине, где все пропахло чебрецом, и принялся обдумывать создавшееся положение.
Оставался еще слабый проблеск надежды: не удастся ли отделаться nokturn'ом и попросить настоятеля отслужить обедню. Но и этот проблеск померк, когда он сообразил, что обедню у настоятеля обычно откупают заранее, а если бы и не откупили, то как бы посмотрели на все это родители, гости и, наконец, сам настоятель!