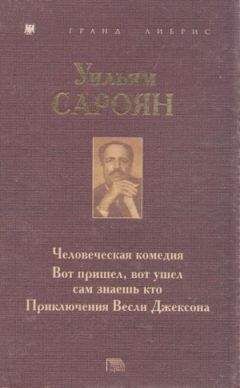— Благодарю, — сказал Джо.
В тот же вечер я привел Джо к себе. Я рассказал Джиль о стихах, которые он посвятил своему сыну, и о том, что сына-то у него еще нет и пока не ожидается, потому что он еще не нашел себе невесты, но он хочет почитать стихи нашему сыночку, который ему близок, потому что Джо наш друг. Джиль все отлично поняла и после ужина уселась в кресло посреди комнаты, а Джо прочел свои стихи.
Поваленное дерево.
В бумаге обращенное,
Беру я вместо камня,
Чтоб высказать на нем так мало.
Когда хотелось бы сказать так много.
Но что еще могу сказать,
Как не все то же «да» и «да»?
Здесь не нужны ни камень, ни бумага.
«Да» — говорят глаза при пробужденье.
«Да» — сон мой говорит моим умершим,
«Да» — говорит рука всем поднятым рукам.
Занесены ль они для злодеянья
Или протянуты из жалости.
Не мыслю говорить на языке вражды.
Любовь — вот мой язык,
Иное мне все чуждо.
Пусть люди говорят и делают все то,
Что говорят и делают, а я
В оцепенении священном повторяю:
«Люблю тебя».
Наследник мудрый детства моего,
Дитя мое, мой кровный сын,
Откликнись мне —
Ведь я уже одной ногой в могиле.
Пришла твоя пора, и твой удел
Стократ счастливей будет моего.
Я написал единственную книгу,
Навеянную всем, что я видал,
И если в ней дневного света нет —
Ни утренней зари, ни полдня —
Одна лишь ночь, кромешная, сплошная,
Без проблеска небесной синевы, —
Даруй мне свет твоих ребячьих паз
Моя пора была сплошная ночь,
И все творенья божьи, что я видел,
Я видел в сумраке ночном.
Я знаю — есть другие существа,
Я видел их, но все они безглазы
И потому — забыты.
Ведь только то поистине и зримо,
Что обладает зреньем и само.
Деревья, по которым будешь лазать
И падать с них, —
Поваленные, обращенные в бумагу,
Послужат камнем и тебе,
Чтоб вырезать слова.
И это почти всё, что нам дано —
Тебе, и мне, и сыну твоему —
Всё, да не всё!
Есть также лес на свете.
Деревья разной есть породы
И назначенья всякого.
Но взятые все вместе, составляют
Единый лес, как дерево одно.
В бумаге нет ни леса, ни деревьев.
Бумага — это либо камень,
Чтоб высекать на нем святое «да»,
Либо мешок для мусора.
Свое я имя в обращеньях к богу
Уж, верно, слишком часто повторял.
Теперь твое я имя повторяю.
Бен, Бен, Бен, Бен, мой сын,
Люблю тебя, я всех людей люблю.
И среди них — деревья, и бумагу,
И камень, и все буквы алфавита.
Вот все, что я хотел тебе сказать.
А ты скажи сверх этого еще,
Но только «да».
Любовь — вот наш язык, иное нам все чуждо.
Всему, всему, мой Бен, скажи «люблю»,
А лучшее — боготвори.
Мы долго молчали, потом Джиль подошла к Джо Фоксхолу и поцеловала его в щеку, и мне так понравилось, что она поняла, красоту того, что высказал Джо своему сыну и что мы с Джиль передали нашему — словами Джо. Я уверен, что обращение Джо дошло до нашего сына, ибо оно дошло до сердца Джиль и она поцеловала Джо. Не знаю, насколько хороши стихи Джо, может быть, они никуда не годятся. Но мне кажется, я знаю что он хотел сказать в этих стихах своему сыну, и я люблю людей, которые так хорошо во всем разбираются, что могут разговаривать с сыном, когда он даже еще не зачат. Мне нравятся люди, которые, говоря о лесе, умеют вам рассказать, что в мире так много разных людей и у каждого своя цель, великая или малая, и что все их усилия могут кончиться ничем, но если только они полюбят, то добьются многого. Любовью можно достичь всего.
Некоторые считают, что стихи пишут одни дураки, но ведь это не так: люди обсуждают стихи, люди дышат ими, мечтают о них, а Джо Фоксхол сам написал стихи. Он написал стихи, которые ему захотелось показать друзьям. А затем он отправился к своей «трепещущей девице».
Глава шестьдесят седьмая
Весли узнает, что нет истины ни в чем, кроме любви, а писатель получает письмо на мимеографе, которое приводит его в ярость
Вскоре после этого я получил письмо от отца.
«Я только что встал с постели, среди ночи, — писал он, — потому что вдруг вспомнил то, что обещал тебе сказать в свое время, но никак не мог вспомнить в Огайо. Вот что я хотел сказать: ни истины, ни красоты, ни справедливости, ни неба, ни бога нет ни в чем, кроме любви. А теперь я снова ложусь спать».
Это было все. И я над этим призадумался. Вот, например, я с моей Джиль. Разве не благодаря ее нежной любви я становлюсь наконец человеком? Или Виктор Тоска с его прелестной женой и чудесной матерью — Виктор, так настойчиво убеждавший меня писать о любви. Или Джо Фоксхол с его стихами, где сказано:
Пусть люди говорят и делают все то,
Что говорят и делают, а я
В оцепенении священном повторяю: «Люблю тебя».
А тут еще эта мудрая мысль, которую отец сберег для меня со времен прошлой войны. Ведь к той же мысли пришел и я своим особым путем, и Виктор — своим, и Джо Фоксхол — своим. Все мы пришли к одному: «Нет истины ни в чем, кроме любви». И все тут. Это не какая-нибудь случайная мыслишка, пришедшая в голову одному мне, — это у всех на уме, это чувствует каждый. И Олсон в его поисках истины. И писатель, который ищет добра во всех и во всем. И женщина, которую я встретил в Нью-Йорке, и та, другая, из Огайо. И даже те сукины сыны — да простит им бог, — которых я ненавижу. Даже им это присуще в той или иной форме. Но мысль об этом меня испугала, я видел, что наступили тяжелые времена — горькие, унылые, жестокие, — и они могли оказаться не по силам любви
Все так же томила нас неизвестность. Дни проходили за днями, и никто из нас не знал, что его ждет впереди. Мы сидели и ждали, и каждый размышлял о своей собственной судьбе. Мы разговаривали, смеялись, пили пиво, веселились и были счастливы, но мы ждали. Мы не знали, что с нами будет. Может быть, идут наши последние денечки. Уж это-то мы все понимали. Об этом никто из нас не мог забыть ни на минуту. Времена пришли тяжелые, но избежать их было нельзя. Бомбы настигали славных жителей Лондона и многих из них унесли с собой, а они ведь этого не хотели, они были застигнуты врасплох, им еще так много предстояло сделать — столько любви еще жило в них.
Как-то утром писатель показал мне письмо, отпечатанное на мимеографе, которое он только что получил со специальным курьером. Время вторжения все приближалось: все говорили об этом, все были уверены, что оно начнется со дня на день, — и вот из Бюро военной информации примчатся рассыльный и вручил писателю письмо, отпечатанное на мимеографе. Писатель с перекошенным от гнева лицом протянул письмо мне.
Я прочитал письмо и нашел его замечательным. Тот, кто его написал, был, должно быть, великий человек. Ей-богу, оно было похоже на послания святых апостолов!
«В эти дни, когда действия неприятеля лишили нас возможности встречаться в „Пи-И-Пи клубе“, что у нас вошло в обычай, ряд участников наших ежемесячных обедов подали мне мысль устроить маленький сюрприз Роберту Сэмсону, нашему неутомимому секретарю, в знак высокой оценки его организаторской деятельности по устройству наших обедов. Я принял это предложение и уверен, что и Вы непременно откликнетесь. Не могу сказать с уверенностью, какой именно подарок явился бы наиболее подходящим к случаю, но я убежден, что, если каждый из нас, американцев, кто участвовал на равных паях в превосходных обедах нашей радушной группы, внес бы, скажем, по три шиллинга, мы совершили бы поистине благородный поступок.
Как Вы, вероятно, знаете, ежемесячный обед вошел в практику начиная с 1942 года с целью знакомства заинтересованных вновь прибывающих членов американских миссий с группой британских должностных лиц. которые связаны с американскими делами и регулярно встречаются в „Пи-И-Пи клубе“. Вскоре стало очевидно, что подобные информационные собрания было бы желательно проводить ежемесячно, с тем чтобы небольшая группа заинтересованных лиц обсуждала важнейшие текущие вопросы, связанные с нашей жизнью и работой в С. К.[11]. В эту группу вошли несколько представителей американских вооруженных сил. Когда Хенри Стэнтон вернулся в Вашингтон, Карлтон Каммингс и я унаследовали его обязанности по привлечению на эти собрания соответствующих американцев в добавление к ветеранам, которые, так сказать, вступили в дело на правах учредителей в 1942 году, и не кто иной, а именно Роберт Сэмсон спаял нашу группу и превратил наши собрания в полезный, подлинно значительный и всегда интересный форум. Вы, конечно, согласитесь, что это содействие англо-американскому сближению, дружеским дискуссиям и взаимопониманию должно быть оценено по достоинству.