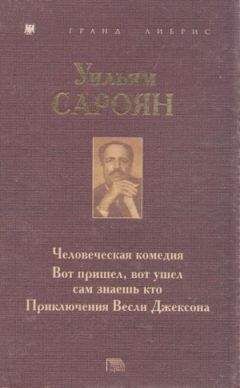В этом же номере «Таймс» была помещена фотография Марплса в наручниках, с двумя агентами ФБР по обе стороны от него. Агенты ФБР выглядели ненормальными, а Марплс был похож на какого-то святого, и автор статьи утверждал, что так оно в известной степени и было. Он приводил факты из жизни Марплса. Уолтер Марплс родился в Каире, штат Миссури, в бедной, но честной семье. Он окончил шесть классов городской школы, после чего пошел в сельскохозяйственные рабочие, чтобы помочь родителям содержать семью, состоявшую к тому времени из шести его младших братьев и сестер. Семнадцати лег он нанялся матросом на корабль и стал посылать отцу с матерью большую часть своего заработка. В матросы он пошел не для того, чтобы уклониться от своих обязанностей перед семьей, а чтобы расширить свой кругозор. Во время плавания он познакомился с творениями Святых, как он их называет, то есть с произведениями американских писателей: Торо, Эмерсона, Мельвиля, Уитмена и Марка Твена. Себя самого он не считает писателем — он не настолько тщеславен, — но он полагает, что его послания (около 393 с начала войны) дошли не только до народа Америки, но и до народов Европы, Азии и многих островов. Он не чувствует себя мучеником, ибо он не страдал. Он ничего не имеет против того, чтобы его поместили в больницу как душевнобольного до тех пор, пока мир не обретет вновь своего здоровья, ибо он уверен, что найдет в больнице немало здоровых людей и научится у них многим хорошим вещам.
Да, вот так-то обстояли дела, и мы с Виктором, Олсоном, писателем и Джо Фоксхолом — все благодарили бога за этого представителя человеческого рода, потому что если какой-нибудь человек выглядел действительно порядочным и казался одним из немногих оставшихся на свете нормальных людей, то это был Уолтер Марплс, арестованный именем закона в маленькой старой гостинице в городе Флагстафе, штат Аризона. Мы были уверены, что большинство людей в Америке думает о нем то же, что и мы. Авторы газетных статей восхищались Уолтером Марплсом, и поэтому мы полагали, что у человечества все-таки сохраняется какая-то надежда.
«Не верьте никому, если только это не тот, кого вы очень любите и кто очень любит вас», — сказал он. Хорошо сказано, Марплс, добрый старый товарищ, человек тридцати восьми лет от роду, добрый наш друг. Наши самые горячие молитвы — о тебе.
Глава шестьдесят девятая
Джим Кэрби рассказывает Весли о смерти Доминика Тоска на Тихом океане
Однажды у нас позвонил телефон, и мужской голос спросил:
— Можно к телефону Весли Джексона?
Это был Джим Кэрби, журналист, который когда-то устроил нам с Гарри Куком полет на Аляску. Он спросил:
— Где мы сейчас можем встретиться?
Я сказал, что можно встретиться у «Бегущей лошади», и поспешил на улицу. Через несколько минул в пивную вошел Кэрби в форме военного корреспондента,
— Я только что прилетел, чтобы дать в газету сообщение о вторжении, — сказал он. — Я был на Тихом океане. Как вы думаете, кого я там встретил?
— Гарри Кука, — говорю я. — Ну как он?
— В полной сохранности, — сказан Джим.
Он проглотил одним духом стакан пива.
— В полной сохранности благодаря человеку по имени Доминик Тоска, которого мне так и не удалось повидать.
— А что с Домиником?
— Он умер еще до моего приезда. Я был у Гарри в госпитале, и он мне все рассказал.
— Что он вам рассказал?
— Что Доминик Тоска спас ему жизнь, а сам погиб.
— А семью Доминика уже известили?
— Они не будут ничего знать еще некоторое время. Это случилось только две недели тому назад. Гарри в полном порядке. Скоро он уже сможет ходить. Его отправляют домой в Сан-Франциско. Он дал мне номер и название вашей части и сказал, чтобы я вас повидал и рассказал обо всем. «Скажите ему, — говорит, — что парень, спасший мне жизнь, был человеком, которого я не любил и который не любил меня. Почему же он это сделал?»
— Он сделал это ради своего брата Виктора, — сказал я.
— К нему пришли в госпиталь, чтобы вручить орден за то, что он спас жизнь Гарри, а он их прогнал — и потом умер. Говорят, он мог бы прожить еще день или два, если бы так не разволновался, — вот что мне сказали. Гарри уверяет, будто он ругался целый час без передышки, а потом Гарри подумал, что он уснул, а он, оказывается, умер. Я написал в газету об этом, только не упомянул имен — ни Доминика, ни Гарри. Ей-богу, жалко, что он умер. Интересно было бы познакомиться с таким парнем.
— Мать Доминика, — сказал я, — хотела послать письмо президенту. Пускай, говорит, он убьет на войне Доминика, но только не Виктора. Ну, и раз Доминика убили, они не смеют теперь убить Виктора.
— Что это вы болтаете? — воскликнул Джим, и я рассказал ему о миссис Тоска, Доминике и Викторе.
— Но, черт возьми, — сказал я, — что делать с парнем который просто уверен, что не выйдет живым из войны? Его брата убили. Довольно этого для одной семьи. Доминик вовсе не должен был быть убитым. Он сделал это только для Виктора, — ну а если вдруг Виктора все-таки тоже убьют?
Джим Кэрби рассказал мне подробно о гибели Доминика и потом о делах на Тихом океане, которые шли неважно. Он был рад, что попал в Европу, потому что, если его убьют где-нибудь здесь, это все-таки лучше, чем погибнуть, как Доминик, бог знает где. Джим спешил по делам, и мы уговорились встретиться позже в тот же вечер в Польском клубе.
Я вернулся к своему столу и долго не мог успокоиться. Ведь я раньше думал, когда только познакомился с Домиником, что он просто хулиган, но, узнав его немножко поближе, увидел, что он самый лучший брат, какой только может быть. Он был таким хорошим братом Виктору, что, не задумываясь, подверг себя опасности, хотя это вовсе не было обязательно, и только для того, чтобы помочь перепуганному парню, чего не сделал бы никто другой на его месте. Я был рад, что мой дружок Гарри Кук не постыдился рассказать Джиму Кэрби всю правду о том, что случилось; ведь, если бы он не рассказал, я бы никогда не узнал, каким замечательным братом был Доминик Виктору. Я всегда думал, что ничто не может убить Доминика Тоска, но, боже мой, ведь любовь к брату тоже может убить человека. Разве не она убила Доминика? Гарри ничего не напутал, ни о чем не соврал — жизнь его была спасена, и теперь он отправлялся домой в Сан-Франциско, в свой родной город и родной город Доминика, где он мог на свободе обдумать, как прожить остаток своей жизни. Он не показал себя ни дураком, ни героем. Просто он был ранен и лежал под огнем, и никто не пытался его спасти, даже лучшие из друзей, потому что это было безрассудно. Он звал, умолял их помочь, но они ничего не сделали. Они любили его, как и полагалось настоящим друзьям, но, черт побери, что за смысл рисковать, если все равно ему не помочь да и сам можешь поплатиться жизнью. Никто из этих ребят не любил его так, как Доминик любил Виктора. Гарри ведь не был им братом, но он был братом Доминику — Гарри был Виктором Тоска.
Скоро в контору зашел Джо Фоксхол и поинтересовался, что со мной происходит. Я не собирался никому рассказывать, но Джо я просто должен был рассказать, потому что был слишком взволнован. Я усадил его на стул и рассказал всю историю. Он хорошо помнил Доминика и Гарри Кука, но для него было новостью то, что я рассказал ему о жене и матери Виктора и о том, как Виктор уговаривал меня писать только о любви, потому что он уверен, что будет убит. Джо не знал, что мне на это сказать, но ему стало очень жалко Доминика, даже слезы выступили у него на глазах. Джо обещал ничего не говорить Виктору о Доминике. Он сказал, что возьмет парня с собой и они отправятся куда-нибудь развлечься.
После ужина я пошел в Польский клуб выпить с Джимом Кэрби. Мы сели в буфете и пили стакан за стаканом. Потом Джим сказал:
— Гарри говорил, что вам будет интересно узнать о знакомых ребятах. Я где-то тут все записал.
Он вынул записную книжечку в кожаном переплете и прочитал несколько фамилий ребят, которых я немного знал, — все они были целы и невредимы.
— А как Ник? — спросил я.
— Как его фамилия?
— Калли.
— Калли, — сказал Джим. — Ник Калли. Вот он где. Он убит. О, черт возьми, черт возьми, — я, конечно, был рад, что остальные ребята живы и здоровы, но Ник, боже мой, ну зачем нужно было его убивать? Ведь это он пел:
О боже, прояви всю доброту свою,
Возьми меня к себе, я жить хочу в раю.
Мне ангелы давно кивают с высоты,
А здесь мне чуждо все среди земной тщеты.
Мне стало так тяжело и грустно, когда я вспомнит песню Ника, что я даже говорить не мог. Мне все слышалось, будто он поет свою песню.
— Как это произошло?
— Несчастный случай, — сказал Джим. — Его послали в дозор, и свои же американцы из другого отряда подстрелили его.
— Кто еще убит?
Джим прочел еще три фамилии, и среди них был Вернон Хигби — о сволочи, сволочи, сволочи! — ведь это Вернон вручил мне первое письмо в моей жизни, письмо от священника пресвитерианской церкви на 7-й авеню в Сан-Франциско. Боже мой, неужели и Вернон убит?