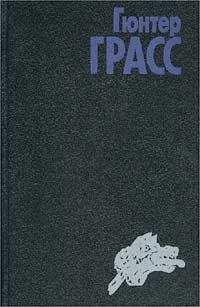Зато Анна Квангель тоже обучилась слушать по ночам у окна камеры. И уж она слушала без пропусков, из ночи в ночь. И говорила сама, шептала в окно, рассказывала свою историю и все спрашивала об Отто, об Отто Квангеле… Господи, да неужто никто здесь не знает, где Отто, как ему живется, ну да, мастер Отто Квангель, пожилой такой, ему пятьдесят три года, только он еще крепкий, видный из себя — должен же кто-нибудь о нем знать!
Когда же Анна поздней ночью, наконец, забиралась под одеяло, она еще долго не спала и утром не могла встать во-время. Надзирательница ругала ее и грозила снова посадить в карцер. Она поздно, слишком поздно садилась за работу. Ей приходилось спешить, но они сама же сводила на-нет всю спешку, потому что ей чудился в коридоре шум, она бросалась к двери и слушала полчаса, час. Одиночное заключение так изменило ее, что она, спокойная, по-матерински ласковая женщина, теперь раздражала всех. Надзирательницам она причиняла много хлопот, и они грубо обращались с ней, а она вступала с ними в пререкания, уверяла, что ее кормят хуже и меньше других, а работать заставляют больше. Несколько раз она доходила в этих спорах до крика, до бессмысленного крика.
И вдруг сама испуганно умолкала. Перед ней вставал путь, который она прошла вплоть до этой голой камеры смертника, вставала уютная квартирка на Яблонскиштрассе, которую ей не суждено больше увидеть, она вспоминала сына Отто, его детский лепет, а потом, когда он подрос, первые школьные горести и радости, вспоминала, как грязная ручонка с неловкой нежностью мазала ее по лицу—ах, эта детская ручонка, ставшая плотью в ее чреве, из ее крови, она давно рассыпалась в прах, давно погибла для нее. Она вспоминала те ночи, когда Трудель, молодая, цветущая, лежала у нее в постели и они по целым часам шептались о строгом отце, который спал на соседней кровати, об Оттохен и планах на будущее. Теперь погибла и Трудель.
А потом она думала об их совместной работе с Отто, о борьбе, которую они втайне вели больше двух лет. Припоминались ей воскресные дни, когда они вместе сидели у обеденного стола, она в углу дивана за штопкой чулок, а он на стуле, разложив перед собой письменные принадлежности, и вместе составляли фразы, вместе мечтали о большом успехе. Погибло, ушло; все погибло, все ушло! Одной суждено ей сидеть в камере, когда впереди только близкая неизбежная смерть, ни слова не слышать об Отто, ни разу, наверно, не увидеть его лица — одной умирать, одной лежать в могиле…
Часами мечется она по камере взад-вперед, она не в силах больше терпеть! Она забросила работу, мотки веревок валяются на полу, нераспутанные, неразвязанные, она только нетерпеливо отшвыривает их ногой, и когда надзирательница вечером отпирает камеру — оказывается ничего не сделано. Надзирательница бранится, но Анну Квангель это теперь не трогает. Она не слушает ругани, пусть делают с ней, что хотят, пусть скорее казнят ее — чем скорее, тем лучше!
— Верьте моему слову, — говорит надзирательница своим товаркам. — Эта скоро свихнется. Держите наготове смирительную рубашку. Да почаще заглядывайте к ней, она, чего доброго, повесится среди бела дня. Оглянуться не успеешь, как повесится, а потом отдувайся за нее!
Но в этом надзирательница неправа: Анна Квангель и не думает вешаться. Мысль об Отто заставляет ее цепляться за жизнь, дорожить даже таким жалким прозябанием. Не может она так уйти из жизни, она должна ждать, — а вдруг получится весточка от него, а вдруг ей позволят повидать его в последний раз перед смертью.
И вот в один из этих мрачных дней счастье как будто улыбнулось ей. Дверь камеры внезапно открылась, и надзирательница крикнула с порога: — Квангель, за мной! Свидание!
Свидание? С кем? Кому я здесь нужна! Разве что Отто? Да, конечно, Отто! Я чувствую, что Отто!
Ей хочется спросить надзирательницу, кто к ней пришел, но именно с этой надзирательницей она постоянно вступала в перебранку, и она боится спрашивать. Дрожа всем телом, идет она вслед за этой женщиной, она ничего не видит перед собой, не понимает, куда они идут, не помнит, что скоро должна умереть, — она знает одно — она идет к Отто, к единственному человеку в целом мире…
Надзирательница передает арестантку номер семьдесят шесть полицейскому вахмистру, тот вводит ее в комнату, разгороженную железной решеткой, по другую сторону решетки стоит какой-то мужчина.
Радость мигом покидает Анну Квангель, едва она видит его. Это не Отто, это всего лишь старый советник Фром. Старичок стоит по ту сторону решетки, голубые глаза его, окруженные венчиком морщинок, смотрят ей навстречу. — Я пришел навестить вас, фрау Квангель, — говорит он.
Дежурный надзиратель стал у решетки и задумчиво смотрит на них. Потом ему становится скучно, он отворачивается и подходит к окну.
— Скорее! — шепчет советник и что-то протягивает ей сквозь решетку.
Она машинально берет.
— Спрячьте! — шепчет он.
И она прячет белый сверточек. Письмо от него, думает она, и сердце бьется вольнее. Разочарование прошло.
Дежурный снова повернулся и, стоя у окна, смотрит на них.
Наконец, к Анне возвращается дар речи. Она не здоровается с советником, не благодарит его, она задает единственный интересующий ее в мире вопрос: — Вы видели Отто, господин советник?
Старик отрицательно качает своей умной головой. — В последнее время не видел, — говорит он. — Но слышал от друзей, что живется ему хорошо, очень хорошо. Он замечательно держится.
Он смотрит на нее и после мгновенного колебания добавляет: — Впрочем, я могу передать вам от него привет.
— Спасибо, — шепчет она. — Большое спасибо. Множество различных ощущений промелькнуло в ней, пока он говорил. Если он не видел Отто, значит, и письма не мог от него получить. Ах нет, он что-то сказал о друзьях, может, друзья передали ему письмо? А слова «он замечательно держится» наполнили ее радостью и гордостью… А привет от него, этот привет посреди каменных и железных клеток, это весна посреди угрюмы стен! Ах, как чудесна, как чудесна жизнь! Сколько в ней еще счастья!
— Вот у вас неважный вид, фрау Квангель, — заметил старик-советник.
— Правда? — спросила она удивленно и рассеянно. — Нет, мне хорошо живется. Даже очень хорошо. Так и скажите Отто. Пожалуйста, скажите! И не забудьте поклониться ему от меня. Вы ведь его увидите?
— Думаю, что да, — с легкой заминкой отвечает он Он до крайности щепетилен, этот педантичный старичок. Малейшая неправда перед лицом этой обреченной претит ему. Она и понятия не имеет, к каким хитростям, каким интригам пришлось ему прибегнуть, чтобы добиться этого свидания! Ему пришлось пустить в ход все свои связи! Для мира Анна Квангель умерла — кто же навещает мертвых?
И все же он не смеет сказать ей, что никогда больше в этой жизни не увидит Отто Квангеля, что ничего слышал о нем и покривил душой, передавая от него привет, чтобы вдохнуть немного мужества в ее сокрушенную душу. Бывают случаи, когда приходится лгать даже умирающим.
— Ах да! — вся встрепенувшись, сказала она вдруг и бледные впалые щеки ее зарделись — Непременна скажите Отто, когда увидите его, что я всегда, каждую минуту думаю о нем, и я знаю, я уверена, что увижу его прежде, чем умереть…
Надзиратель с минуту растерянно смотрит на эту пожилую женщину, которая говорит тоном юной влюбленной девушки. Старая солома жарче горит! — думает он и отворачивается к окну.
Она не заметила его взгляда, она лихорадочно говорит дальше: — И еще скажите Отто, что у меня прекрасная, совсем отдельная камера. Мне живется хорошо! Я постоянно думаю о нем и счастлива этим. Я знай твердо, нас ничто не может разлучить, ни стены, ни решетки. Я всегда, каждую минуту с ним, ночью и днем Скажите ему непременно!
Она лжет, ах, как она лжет, лишь бы утешить своего Отто! Она хочет дать ему покой, тот покой, которого ни часу не имела сама с тех пор, как находится здесь.
Советник суда косится на дежурного, который уставился в окно, и шепчет: — Смотрите, не потеряйте то, что я вам дал! — потому что фрау Квангель, повидимому, забыла все на свете.
— Нет, нет, не потеряю, господин советник. А что там такое? — тихо спрашивает она.
— Яд, ваш муж получил то же, — еще тише отвечает он.
Она кивает.
Дежурный поворачивается к ним и говорит угрожающе: — Шептаться не разрешено, иначе свидание прекращается. Кстати, — он смотрит на часы, — время все равно истекает через полторы минуты.
— Да, — задумчиво тянет она. — Да. — И вдруг понимает, что именно ей надо сказать. Она спрашивает: — Как вы думаете, Отто скоро уедет? Не дожидаясь того, большого путешествия? Да? Как вы думаете?
Лицо ее выражает такую мучительную тревогу, что даже тупоголовый чиновник понимает — здесь подразумевается совсем не то, что говорится. Он уже готов вмешаться, но потом смотрит на эту пожилую женщину, на господина с седой бородкой, который в пропуске значится советником суда, и, исполнившись снисхождения, опять отворачивается к окну.