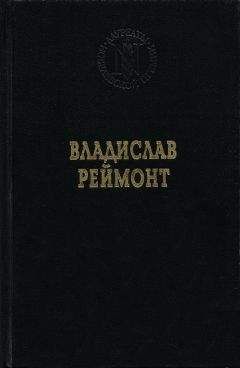Счастливый и довольный собой, он взял ее за руку и, указывая на фабрику, с жаром воскликнул:
— Вот она, моя фабрика! Она принадлежит мне, и я ее никому не отдам!
— Я тоже очень рада, — прошептала она.
— Но далеко не так, как я, — с укором сказал он.
— Отчего же? Ведь ваше счастье и мое неотделимы, — заметила она и отошла к беседке, так как ее позвала Нина.
«Она все еще на меня дуется. Надо будет ею заняться», — подумал Кароль, поднимаясь на веранду, куда вынесли столы из комнаты, где было слишком тесно и душно.
Мориц распоряжался всем по-хозяйски и, время от времени вставая из-за стола, о чем-то таинственно шептался с Гросгликом.
Не принимал участия в общем веселье также и Макс Баум, сидевший рядом с отцом. Старик принял приглашение и явился на торжество, пугая всех своим угрюмым исхудалым и словно покрытым могильной плесенью лицом. Он потягивал вино, молча оглядывал собравшихся, но когда к нему обращались, отвечал вполне осмысленно и все посматривал на новые красные фабричные трубы.
В маленькой комнатке с окнами на улицу ксендз Шимон, пан Адам и Зайончковский играли в преферанс, четвертым партнером был Куровский. Все, кроме него, по старой памяти азартно спорили, а он после сдачи карт всякий раз незаметно исчезал и, отыскав Анку и обменявшись с ней несколькими словами, возвращался обратно. И проходя мимо пьяного Кесслера, отпускал шуточки по его адресу. Играл он плохо, часто ошибался и портил остальным игру, за что должен был выслушивать упреки пана Адама и возмущенные крики Зайончковского; только ксендз Шимон, казалось, получал от этого удовольствие.
— Отменно, сударь, отменно! — весело восклицал он, колотя чубуком по сутане. — Задали вы Зайчику перцу, теперь он это попомнит. Ха-ха-ха! Чтобы сесть без трех, надо не Зайончковским быть, а Барановским. Ха-ха-ха!
— Да разве я виноват в этом?! — взревел шляхтич, ударяя кулаком по столу. — Посадили играть с неумехой. Он, похоже, и карт-то никогда в руках не держал! Мой ход! Семь треф!
Начали новую пульку и больше уже не пререкались. Только пан Адам, когда карта шла ему, по старой привычке притопывал по подножке кресла и вполголоса напевал: «Пошли девки по грибы, по грибы!..»
Ксендз Шимон посасывал угасшую трубку и время от времени кричал:
— Ясек, пострел, огоньку!
Вместо Ясека Анка приставила к нему Матеуша.
Куровский молча, с улыбкой выслушивал брань Зайончковского, — его забавляли отжившие шляхетские замашки.
— Может, принести вина или пива? — спросила вошедшая Анка.
— Ничего нам, дитятко, не надо. Знаешь, Ануля, Зайчик сел без трех! — сказал ксендз, заливаясь смехом.
— Ей-Богу, не пристало ксендзу радоваться несчастью ближнего. Это может печально кончиться, как у Кинорских в Сандомирском повете… А дело было так…
— Нас, любезный сударь, не интересует, что там было. Ты лучше за игрой следи да масть не путай! Давай-ка сюда туза, последнего своего туза, и не втирай нам очки!
— Это я-то втираю очки! — страшным голосом взревел Зайончковский.
Снова вспыхнула ссора, крики Зайончковского разносились по всему дому, и гости на веранде с беспокойством поглядывали на Боровецкого.
— Пан Высоцкий, может, вы подмените меня? — окликнул Куровский доктора, проходившего через соседнюю комнату, и, отдав ему карты, вышел в сад, где Анка прогуливалась с Ниной.
Он присоединился к ним, и они направились к маленькой беседке, увитой диким виноградом с уже покрасневшими листьями и окруженной рабатками отцветающих астр и левкоев.
— Какой чудесный день! — сказал Куровский, садясь напротив Анки.
— Наверно, это последний погожий осенний день, оттого он и кажется таким чудесным.
Они долго молчали, наслаждаясь теплым, словно ласкающим воздухом, насыщенным запахом умирающих цветов и вянущей листвы.
Заходящее солнце окутывало сад золотистой дымкой, смягчая очертания предметов и придавая блеклым краскам изумительный бледно-золотой оттенок.
Отливая перламутром, в траве поблескивала паутина, в неподвижном теплом воздухе реяли длинные, словно из жидкого стекла, нити бабьего лета — они цеплялись за желтые акации около дома, протягивались к черешням, на которых дрожали редкие красные листья, и раскачивались между стволами, пока их не подхватывал легкий ветерок и не уносил высоко — к крышам домов, в частокольное марево фабричных труб.
— В деревне такой день в тысячу раз красивей, — прошептала Анка.
— Несомненно. Заранее прошу прощения, если мое замечание покажется вам бестактным, но мне кажется, вас, панна Анна, не слишком радует сегодняшнее торжество?
— Напротив, я очень рада. Меня всегда бесконечно радует, когда исполняется чье-то желание.
— Вы переводите разговор в другую — отвлеченную — плоскость. И я вам охотно верю. Но я имею в виду сегодняшний день и не вижу, чтобы он доставлял вам радость.
— Ничего не поделаешь, если вы этого не видите. Но я в самом деле очень рада.
— По вашему голосу этого не скажешь!
— Разве он может не соответствовать тому, что я чувствую?
— Значит, может, потому что выдает ваше безразличие, — смело парировал Куровский.
— Вам просто послышалось, и вы сделали неправильный вывод.
— Если вам так угодно…
— Не приписывайте Анке несвойственных ей мыслей.
— Можно о чем-то не думать, но подсознательно оно в нас присутствует. Полагаю, что я прав.
— Нисколько. Вы просто подтверждаете только что вами сказанное.
— Конечно, мы бываем правы лишь в том случае, если дамы соизволят признать нашу правоту.
— Вы в этом не нуждаетесь.
— Нет, отчего же? Иногда нуждаемся. — Он улыбнулся.
— Чтобы лишний раз убедиться в своей правоте.
— Нет, чтобы казаться лучше, чем мы есть.
— К нам идет Кесслер.
— В таком разе я ухожу, а то, чего доброго, еще поколочу этого немчуру.
— И оставляете нас наедине с этим нудой! — воскликнула Анка.
— Он удивительно красив какой-то осенней, прощальной красотой, — заметила Нина, глядя вслед Куровскому.
— Куровский, поди сюда! Давай выпьем! — позвал его с веранды Мышковский, сидевший за столом, уставленным целой батареей бутылок.
— Ладно, выпьем еще раз за успех и процветание промышленности! — Подняв бокал Куровский обратился с этими словами к Максу, который, сидя на балюстраде, беседовал с Карчмареком.
— За это я не стану пить! Будь она проклята, эта промышленность вместе с ее прислужниками! — вскричал изрядно подвыпивший Мышковский.
— Не болтай глупостей! Сегодня торжество истинного труда упорного и целенаправленного.
— Замолчи, Куровский! Торжество, истинный труд, упорство, целенаправленность! Пять слов и сто глупостей! Ты бы лучше молчал! Сам уподобился этим наймитам, живешь и работаешь, как последняя скотина, и деньгу копишь. Пью за то, чтобы ты одумался.
— Прощай, Мышковский! Приходи ко мне в субботу, тогда и поговорим. А сейчас мне пора!
— Ладно, только сперва выпей со мной. А то Кароль не хочет, Макс не может, Кесслер, тот предпочитает обольщать женщин, Травинский уже нагрузился, шляхтичи в карты режутся. Что же мне, бедному сироте, делать? Не стану же я с Морицем или с фабрикантами пить.
Куровский выпил с ним и, ненадолго задержавшись, наблюдал за Кесслером. А тот прохаживался с дамами, бормоча что-то бессвязное; при этом у него непрерывно двигались челюсти, и при свете солнца он еще больше напоминал рыжую летучую мышь.
Гости постепенно разошлись, и, кроме близких знакомых, остался только Мюллер. Он дружески беседовал с Боровецким и не отпускал его от себя. Муррей, который пришел под самый конец, подсел к Максу и группе своих коллег и с восхищением посматривал на женщин — с наступлением вечерней прохлады они вернулись из сада и теперь сидели на веранде в окружении мужчин.
— Ну, когда же вы женитесь? — вполголоса спросил его Макс.
Англичанин ответил не сразу и, лишь натешив взор видом красивых женщин, тихо сказал:
— Я готов хоть сейчас!
— На которой?
— На любой, если нельзя на обеих.
— Опоздали: одна замужняя дама, другая — обрученная невеста.
— Вечно я опаздываю! Вечно опаздываю! — с горечью прошептал Муррей и дрожащими руками одернул на горбу сюртук, потом подсел к Мышковскому и стал пить с ним, словно заливая горе.
Вошел Яскульский и, отыскав Кароля, шепнул ему на ухо, что в конторе его ждет какой-то человек и непременно хочет с ним увидеться.
— Не знаете, кто это?
— Точно не знаю, но сдается мне, пан Цукер… — пробормотал старик.
«Цукер, Цукер!» — повторил про себя Кароль и от недоброго предчувствия у него тревожно забилось сердце.
— Сейчас приду. Пусть обождет минутку, — сказал он и, пройдя в комнату отца, сунул в карман пистолет.