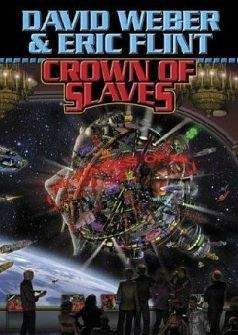Иштвану Варью эта история долго не давала покоя. Лишь во вторник вечером, на берегу Дуная в Бае, после второй кружки пива, щемящая тревога в груди ослабла, отошла куда-то. А после третьей кружки Варью помнил уже только гладкую кожу, девичье тело Жожо, ее лицо. Варью сидел, глядя на ленивую, черную воду старицы, и воспоминания о счастливых часах субботнего вечера постепенно завладевали им. Милое, залитое слезами лицо Жожо стояло перед ним и на следующий день; но по мере того, как уходили под колеса «ЗИЛа» километры и свинцовая усталость в ногах постепенно расплывалась по телу, дурманя голову, образ Жожо бледнел и отдалялся. В четверг ему вспомнилась светловолосая девчонка с полными губами, которую он подвез до Пакша, и целые полдня он раздумывал, зачем ей понадобилось в Боглар, если сначала она собиралась в Печ? Почему она не поймала машину, идущую в Печ? На шоссе № 6 полным-полно печских машин. И вообще — чего она потеряла в Богларе? Есть там вообще что-нибудь, кроме той часовни?.. К пятнице Варью слишком устал, чтобы думать о девушках. Осоловело глядя на дорогу, он курил одну сигарету за другой да слушал магнитофон. Уже к обеду была выполнена недельная норма — две тысячи километров, и дальше Варью думал лишь о том, как бы добраться до подушки... В субботу утром, взглянув на свои сокровища, Варью сразу вспомнил про Йоцо. Он взял марсельскую открытку, заново перечитал текст: «Просьбу выполнил. 6 июля в 5 ч. буду в «Семерке треф». Йоцо». Открытка будто окрылила Варью: он стал торопить с погрузкой, с оформлением бумаг; В половине второго он уже катил по шоссе № 1. Он был доволен собой. Однако усталость постепенно вновь взяла верх. Уже у поворота на Гёню у него опять стали неметь ноги, а после Комарома пришлось остановить машину...
Среди сомлевших от жары садов Варью мчался к Будапешту. «Еще час, и я. на базе, — думал он. — Машины подходят одна за другой... У ворот, перед гаражами, в душе — везде шоферы, не протолкнуться... » Пришлось снизить скорость: дорога пересекала деревню. Варью с неприязнью взглянул на серые от пыли дома Нергешуйфалу; потом, чтобы не давать волю досаде, потянулся к фотографиям на ветровом стекле, вытащил из-под прокладки карточку Жожо.
Посмотрел на нее, повертел в руках и поставил на место. Снова, как в Бае, на берегу Дуная, возникло перед ним милое, мокрое лицо Жожо. Он нажал клавишу магнитофона, и в тесной кабине грузовика ансамбль «Середина пути» запел «Соли, Соли». Варью растерянно смотрел на фотографии кёбаньских девчонок: что-то тут было не так, а что — он сам не мог понять. Когда ансамбль исполнил ему две другие песни Стотта и Капуано, «Колдунью» и «Королеву пчел», он вытащил из-за прокладки карточки Мари и Цицы.
— Вот так,— сказал он вслух; но тут последовали «Слезы паяца» со Смоки Робинсоном, снова ввергнув его в сомнения. Он поставил на прежнее место фото Цицы, потом, когда шоссе возле Тата ушло от Дуная, водворил туда же и Мари. Ему вспомнилось, как однажды он спас Цицу из воды. Это было давно, еще в те времена, когда они, ребята и девчонки, в особо знойные летние дни бегали купаться на пруд к кирпичному заводу. Цица совсем не умела плавать — и как-то, прыгая и брызгаясь с подружками, незаметно оказалась далеко от берега и вдруг погрузилась в воду. Наступила тишина. Именно эта неестественная тишина и заставила Варью поднять голову. Он хорошо помнит, что лежал тогда на голом, глинистом берегу и почти засыпал, разморенный жарой. Внезапная тишина встревожила его. Он взглянул на пруд и увидел, как голова Цицы, появившись, опять исчезла под водой. Не мешкая, Варью бросился в воду и принялся нырять, отыскивая Цицу. Ей тогда было лет четырнадцать. Он быстро нашел ее, вытащил, безжизненную, обвисшую, на берег. Девушка не шевелилась. Тогда он поднял ее за ноги, будто мешок, и вылил из нее воду. А когда опустил, она мало-помалу пришла в себя. Остальные плотным кольцом сгрудились вокруг. Цица поднялась, огляделась растерянно, и вдруг ее стало рвать водой. «Ничего себе трюк»,— сказала Мари; никто не понял, что она имеет в виду. Потом они сидели все вместе на голой желтой глине, и Цица при всех поцеловала его. Варью хорошо помнит этот поцелуй. Губы у Цицы были мягкие, податливые, но от них пахло рвотой, и его передернуло. И все-таки у Варью осталось такое чувство, будто их с Цицей после этого случая что-то крепко-накрепко связало и, что бы между ними ни произошло в дальнейшем, все будет естественным...
Снова переведя взгляд с дороги на фотографии, Варью нашел, что три эти кёбаньские девушки ну просто никак не могут находиться вместе. Прежде — другое дело: прежде они означали для него нечто единое. Дом, привычный с детства район, юность, любовь. И означали не каждая в отдельности, а лишь вместе, словно вовсе не о трех, а об одной-единственной девушке шла речь. Об одной девчонке, которая зато во всех отношениях первый сорт. Ведь Мари, Цица и Жожо в самом деле были девушки что надо... Варью вспомнил, что Мари и Цицу он знает по меньшей мере лет десять, а Жожо — лишь с тех пор, как работает на «Волане». Но не только в этом было дело: Жожо в чем-то была совсем иная, чем они. В чем? Некоторое время он размышлял над этим и ничего, не смог придумать. И все-таки наклонился и разделил карточки: Цицу поставил рядом с Мари, а Жожо отодвинул от них подальше. Разглядывая эту новую комбинацию, Варью вспомнил светловолосую попутчицу и пожалел, что не попросил у нее фотокарточку. Наверное, он поместил бы ее рядом с карточкой Жожо. Но, доехав до поворота на Токод, он уже был совершенно уверен, что вместе их нельзя было бы поместить. Светловолосая гораздо лучше смотрелась бы рядом с Мари и Цицей... Варью снова и снова поглядывал в раздумье на фотографии и где-то возле Дорога уже твердо знал, что такой вариант его тоже не устраивает. Фото светловолосой стояло бы где-нибудь отдельно, далеко от карточек кёбаньских девчонок...
На тихом ходу Варью ехал через Леаньвар. На ленте Трини Лопес как раз исполнял «Может быть» Фарреса, когда Варью почувствовал, что передняя часть «ЗИЛа» начинает крениться вправо. Могло показаться, что правое колесо просто-напросто попало в канавку или что край шоссе сантиметров на тридцать ниже, чем середина. Варью повернул руль влево; машина начала подпрыгивать, трястись. Тогда он все понял. Поставив «ЗИЛ» на обочину, он включил мотор и долго сидел, глядя невидящими глазами на пыльную дорогу и на весь этот постылый свет. Ему было стыдно и горько: ведь он превратился, что называется, в шофера с дубовым задом. Раньше он всегда моментально чувствовал — чувствовал именно этой частью тела,— если машина начинала садиться на колесо. И мог точно определить, на каком колесе спустила камера. Но сейчас он слишком устал. В памяти у него на секунду всплыл аэродром, где он в наземной команде отбывал свои армейские годы. Он хорошо помнил клуб, где весь личный состав части, бывало, весело ржал над пилотами-неудачниками, пилотами с дубовым задом, которые грохали самолет о бетон взлетной полосы, потому что не способны были чувствовать задницей, когда самолет отрывается от земли и когда он касается колесами дорожки. А такие вещи нельзя не чувствовать. У настоящего пилота задница — что твой сейсмограф. Как у настоящего шофера, который чувствует под собой машину, чувствует дорогу...
Иштван Варью долго сидел, глядя перед собой, не в силах двинуться; а когда откинулся наконец назад, то обнаружил, что Гиммик, пятый персонаж с цветной рекламы «Кэмела», смотрит на него с явным осуждением. Во всяком случае, в глазах его сквозило неодобрение, даже издевка. Словно у него сложилось очень нелестное мнение о Варью и о шоферах вообще: жирный подбородок Гиммика подрагивал, большой палец был элегантно засунут за подтяжки. Лицо его определенно выражало презрительную иронию. А красная гвоздика в петлице придавала ему просто-таки вызывающий вид. Все это возмутило Варью до глубины души: такого от Гиммика он не ожидал. Ну, еще Моэ Ментум, импотент, скорчил бы такую физиономию... Но Гиммик!.. Подумать только: какой-то паршивый официантишка с животиком... к тому же еще двоеженец и любитель извращений. Нет, у него решительно никаких оснований не было смотреть на шоферов сверху вниз... Варью взглянул на мясистую руку Гиммика: на пальце у того блестело золотое кольцо с настоящим бриллиантом... Нет, Варью определенно не понимал этого официанта. Он окинул взглядом остальных — все вели себя вполне благопристойно, даже Дейус; Варью почему-то всегда казалось, что с негром у него рано или поздно обязательно появятся разногласия... Словом, в неприятной этой ситуации один только Гиммик, официант-двоеженец, смотрел на Варью, причем смотрел с явным осуждением и даже со злорадством. Впрочем, выключая магнитофон, Варью заметил, что кенгуру тоже косит на него черным блестящим глазом. Взгляд кенгуру трудно было квалифицировать однозначно. Одно ясно: насмешки, осуждения в нем не было; не было, правда, и сочувствия. Он просто смотрел, вот и все. Кроме него да еще Гиммика, никто из поступающих в школу кенгуру не обращал на Варью ни малейшего внимания...