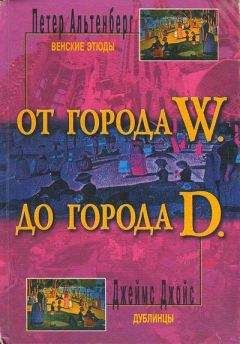Она встала и пошла в дом.
Окна маленькой дачи в белом садике оставались темными.
Девушке в белом платье стало холодно, но она осталась в саду и продолжала мечтать.
Наступила ночь.
Оба садика были залиты лунным светом.
Красные и белые гвоздики и темные кусты крыжовника были влажны от росы и блестели.
На даче в красном садике спала девушка.
Лунный луч скользнул по ее теплому телу и по красному шелку лежащему на стуле.
Она грезила: — Люблю ли я его?..
На даче в белом садике спала девушка.
Лунный луч покоился на ее белой груди и на белых кружевах, брошенных на стуле.
Она грезила: — Я люблю его…
Утро озарило серовато-розовым светом оба садика.
Все блестело, влажное от росы.
Девушки закрылись одеялом и спали крепко, без снов.
— Я в первый раз сижу рядом с поэтом, — подумала она, и внутренний трепет охватил ее.
— Какие у вас чудные руки, барышня, — сказал он.
«Настоящий поэт!» — подумала она.
Потом он сказал: — Вы бледны, как будто устали. Никогда, никогда не позволяйте по утрам будить себя, — никогда. Кто будит вас?
— Мама.
— Сон, — это величайшее и, быть может, единственное благо, которое дарует нам природа — жестокая, всегда неумолимая!
«Как он выражается! — говорило в ней чувство. Настоящий поэт!»
А он сказал: — Иисус Христос проповедовал всеобщую любовь; господин фон Эгиди, Либкнехт и Толстой были носителями других идей; я же исключительно хотел бы быть проповедником святости сна Экзальтированным провозвестником святого права человеческого организма на глубокий, сам собою кончающийся сон. Горе тебе, преступник, убийца, разрушитель, пробуждающий от сна человека, когда природа приступает к исцелению, к освобождению его; ты этим нарушаешь, искажаешь святые замыслы ее! Мать, нарушающая сон своей дочери, недостойна называться матерью! Одно да будет свято человеку: таинственный труд природы, возмещающей силы истощенного организма, отнятые неумолимой дневной борьбою! Аминь!
Его молодая собеседница подумала: — Пророк, фанатик… как жаль!
А он продолжал: — Женщина!? Есть ли кто-нибудь, заслуживающий этого славного имени?!? Если бы я спросил девушку, какой сорт рису считается лучшим, — она смолчала бы, не сумела бы сказать. Раз одна барыня сказала мне: — Что за вопрос?! У нас, милостивый государь, всегда лучший сорт рису, не правда ли, Карл?
Но она понятия не имела о том, чем отличается «лучший рис» от обыкновенного!
Барышня подумала: «Повар… как жаль!»
Потом сказала вслух: — Ну, а чем же он отличается?!?
Он: — Каждое зерно риса должно быть совершенно прозрачно, как чистый алебастр, на нем не должно быть ни единого пятнышка — тусклого или мутного. Сваренный, он должен быть очень мягок, но формы своей не должен терять, сохраняя вид сырого и жесткого. Тверд и нежен! Как благородная душа человека!
Ей стало очень грустно: — Неужели же «женщина» должна знать толк только в одном рисе?!
— Нет, — ответил он, — но рис, — благороднейшая, нежнейшая, легче всего переваримая пища, — источник тепла для остывающей жизни, — представляет собой как бы священную совокупность всех способов возмещения потерянных сил! Доставить человеку возможность развернуть всю силу, все величие, весь скрытый огонь, все высшие стремления его, — вот что значит быть «женщиной!» Поистине «женщиной!» Надо захотеть, надо быть способной на это!
Молодая девушка думала: — Этого я совсем не понимаю. Он глуп… как жаль!
Потом они говорили о стеклянной машинке для выжимания лимона, — он назвал ее «яйцом Колумба». Говорил, впрочем, он, а она внутренне зевала, проникновенно и сочувственно.
— Подумать страшно, что было в прежнее время! Выжимаешь до судороги в пальцах, и все-таки большая часть сока остается в лимоне, а ненужные зерна оказываются в стакане. Теперь же, пользуясь стеклянной машинкой для выжимания лимона, — 50 хеллеров стоит штука, — сок ручейком течет в нижний желобок, между тем как ненужные зерна остаются в верхнем желобке. А внутренность корки суха как пустыня Гоби. Вот когда ростовщик или кокотка с полным правом могут сказать: — Он выжат как лимон!
Подруги страшно завидовали молодой девушке, с которой поэт так долго и так горячо беседовал наедине.
Одна из них сказала: — О чем они разговаривают? Я не могу себе представить.
Другая: — Вероятно, о Метерлинке, — а может быть, об Ибсене.
Третья сказала; — О любви.
Четвертая: — Понятно, об измене.
Самая младшая же из них подумала:
— Раз говоришь с поэтом… не все ли равно, о чем с ним говоришь…
LA FEMME EST UN ÉTAT DE NOTRE ÂME[16]
Как она живет? Как живет Кристина?
Расскажите мне о ее жизни!
Она просыпается, откидывает назад свои темно-русые волосы, подходит к умывальнику, от которого разносится тонкий запах мыла и зубной пасты Boutemard. Она окунает свое нежное личико в теплую воду, моет его мылом, обливается водой, вытирается. И так далее.
Потом утренний чай. Чуть-чуть утомленная сидит она за столом Отдыхает от отдыха. Всегда та же чашка, та же вышитая салфеточка, тот же аромат чая.
Вся эта утренняя жизнь — удобный, приспособленный, исправно работающий механизм.
Потом она тихо прохаживается по комнатам, берет чистый носовой платок, внимательно осматривает его, осторожно надевает маленькие золотые часики, открывает и закрывает разные ящички: «Красивые у меня есть вещи», — думает она. Она разбирает и приводит в порядок разные мелочи, сама выносит на воздух свои любимые цветы и нежно, любовно, как за маленькими детьми, ухаживает за ними, срезает завядший листок… нет, он даже еще не завял, а только поблек немного — он уж не может впитывать воду и все-таки отнимает кое-что у других. Потом она обрызгивает водой все листочки и любуется ими. «Хорошо!» — думает она.
Так проходит утро.
Двери открываются и закрываются — кажется, что дом никогда не будет убран.
Но вот, наконец, все чисто, светло, все блестит, и не верится, что тут была долгая темная ночь.
Цветы опять стоят на своем месте у зеркальных окон, свежие и яркие, как будто только что орошенные веселым летним дождем.
Все дышит свежестью, здоровьем. Каждый день та же печать лежит на всем.
Тот же здоровый, ясный порядок.
Который час?
Как проходит время до обеда?
Оно проходит…
Потом садятся за стол, каждый на свое место, раскладывают на коленях салфетки.
Отец ласково смотрит на свою дочь. — Отдых для глаз среди беспокойной жизни.
И так каждый день…
Она для него как свежие цветы у окна и солнечный свет в чисто прибранных комнатах.
Что, если б этого не было, если б она была другая… Кристина?
Но это есть, это так же верно, как вечер, который наступает после дня.
Говорят. Молчат. Что нового? Кто-то заходил, у кого-то были в гостях.
Всегда тот же запах в столовой после еды.
Отец пьет кофе и поглядывает на свою дочь — по-видимому, он очень любит ее.
Но как он смотрит на нее?
Что говорит его взгляд?
— Только бы ты была здорова и все бы шло так же мирно.
Он не будит, не разгадывает. Он не останавливается, он идет мимо, топчет, как сама тупая, тяжелая жизнь.
Встают из-за стола.
Время идет — проходит.
У окна среди темной зелени белеют цветы.
За окном гремят экипажи и смолкают вдали.
Она берет книгу. Книги поэтов, как звезды — также бесконечно далеко от нас. И все-таки они мерцают нам…
Мать подходит, сестра…
Брат шумно врывается в комнату и потом опять спешит прочь в далекую непонятную жизнь, которой живут мужчины, и, вместе с запахом папиросы, оставляет за собой что-то беззаботное, вольное.
Медленно прядется жизнь и тает — проходит… Ее не останавливают.
Заботы близких создают все, что нужно вокруг.
Вечер.
Зажгите лампы!
Говорят, молчат. Что нового?
— Тетя Мари заходила Она нашла что Криста хорошо выглядит. Она говорит, что летом следовало бы…
— Вчера в театре, кажется, был министр Голуховский. Видели вы его?
— Нет. Ах, как жаль! Интересно было бы. Скучная была публика Он министр чего?
— Иностранных дел. Как ты этого не знаешь? О чем ты думаешь? О романах?
— Что за страсть у Кристи к цветам! Ей бы быть женой садовника. К Рождеству — цветы, к именинам — тоже. И всегда белые. Пестрые ведь красивей?.. Впрочем, в комнатах…
— Что в комнатах?
— Ничего. И потом тетя говорит, что из всех «idées fixes» души это еще самая невинная. Она иногда удивительно выражается.