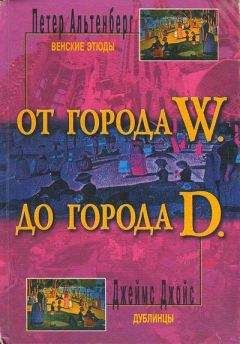Пудель радостно завизжал и прыгнул ей навстречу.
А я снял с нее шелковую тальму и повесил ее на вешалку.
Потом мы сели.
— Вам было скучно? — спросила она таким тоном, как спрашивают: как вы поживаете?
Потом она сказала: — Чудно играли сегодня…
А у меня в душе какой-то голос шептал: тоска, тоска, любовь, которая льется, льется из сердца человека и животного, куда же она уходит? Где она теряется? Скопляется ли она в пространстве, как водяные капли в облаках? Как воздух насыщен водяными парами, так мир напоен любовью и тоской и сгибается под тяжестью чувств, которые тянутся, ищут и не находят души, которая могла бы их принять… Во что обращается это важное, драгоценное порождение жизни?
Любовь, тоска, тоска, которая льется, льется из сердца человека и животного, — куда ж она уходит? Где она теряется?
— Много хорошеньких девушек знаю я здесь в маленьком глухом городке — Розу, Марию, Грету, Беттину, Терезу…
«Милые создания, думаю я, как бы я хотел вам счастья в жизни — безмятежного, спокойного счастья!»
Такие ласковые чувства у меня к Розе, Марии, Грете, Беттине, Терезе…
Есть еще Анна. Ей 15 лет, она бедная, худенькая, бледная.
Вот уже пять дней, как я плачу за нее на «американских каруселях» на большом гулянье на лугу.
Она никогда не просит, она молча принимает. Иногда она с высоты благодарит меня взглядом…
Ее старшие подруги Роза, Мария, Грета, Беттина, Тереза тоже катаются на каруселях.
— Бедовая наша Анна… — говорят они.
— Я бы хотела кататься на целые 10 гульденов! — вся трепеща от удовольствия, сказала Анна раз подругам. — Они сейчас же передали мне ее слова.
— Ну, что же? — сказал я.
— Ах, вы и так уже истратили страшно много — 2 гульдена 40 крейцеров!
— Как вы это знаете?
— Я записываю… — двадцать четыре раза по десяти крейцеров.
— Зачем же это помнить?
— Так, — и она покраснела.
Сегодня я сказал ей: — Анна, давайте кататься вместе.
— О, вы не выдержите! — ответила она мне, как новичку.
Правда, это было как на море. Гигантский оркестрион звучал и ревел, как буря. Анна сидела против меня. Мы были одни в пространстве. Оркестрион ревел Мы поднимались, опускались. Качель была волной, повисшей в воздушном океане. Спускаясь, я смотрел в ее глаза. Потом я видел ее колени, подол ее белой юбки…
Я сказал: — Анна — слишком высоко?
— Нет…
Я тянул за веревку, всей тяжестью налегал на нее, мы поднимались вверх, выше, выше — вниз — вверх…
— Ах, — прошептала она, склоняясь вниз.
— Вам страшно?
— Нет.
— Анна…
Мы были как в море, в буре. Оркестрион ревел своими двадцатью и одной трубами. Вверх — вниз…
Спускаясь на землю, я сказал ей: — Аня, Анита…
— Благодарю, — ответила она мне взглядом.
— Принцесса Анна! — приветствовали ее Роза, Мария, Грета, Беттина, Тереза:
— Боже, какая ты бледная!
………………………
Много хорошеньких девушек знаю я здесь в глухом городке — Розу, Марию, Грету, Беттину, Терезу.
«Милые создания, думаю я, — если бы судьба вам подарила счастье, безбурное, мирное счастье!»
Так нежно думаю я о Розе, Марии, Грете, Беттине, Терезе…
Ночью в кафе. Четыре часа утра.
За одним столом сидят семь ночных гуляк и, как туристы из Риги, ждут рассвета — золотой, розовой зари.
Но воздух здесь далеко не горный.
«Гуляка» — это человеческая машина, выбитая из колеи. Она начинает останавливаться на ходу, бросается направо, налево, понапрасну расходует силу, опрокидывается и лежит неподвижно, как пьяница в уличной грязи.
Эти люди сидят, пропивают гроши, говорят, говорят, похваляются и все больше пьянеют. Бьются об заклад, горячатся и ссорятся.
За другим столом сидят извозчики. Они грубы, неповоротливы и молчаливы. Очень редко, почти никогда, не разгораются их страсти. Все как бы сковано в них. Они все вымещают на лошадях. «Ну, ты, дьявол!..» Удар ногой в живот. Но дьявол сидит здесь в ресторане, или в другом месте. Бедное животное только представитель его. Все страсти срываются на лошадях.
Молодая девушка с прекрасным бледным лицом поникла над столом, за которым сидит бледный молодой человек.
— Что с вами? — спросил молодой человек и прикоснулся к ее красивой белой руке.
— Я боюсь, — сказала девушка.
— Что нужно от вас этому субъекту?
— Ничего!.. Я боюсь, что он меня побьет, когда я выйду на улицу. Я не хочу домой, я боюсь. Мне совсем не надо, чтоб меня любили. Мне нужны только деньги, хорошие платья. А он меня будет бить.
— Пойдемте со мной, — сказал молодой человек и поднялся с места.
У него пробудилось глубокое сочувствие к ней за то, что уста ее вещали искренние, правдивые слова души, хотя и грубой, как сама природа.
«Мне не нужно, чтоб меня любили… Мне нужны только деньги, хорошие платья…» Это восхищало его.
Он любил тех, чья речь полностью выражает сущность их природы. Он любил, чтоб звучала сама природа человека, а не отдельный инструмент, как флейта или кларнет, из которых можно по желанию извлечь любой звук. А потом бросить.
Поэтому нельзя узнать, каков человек. Он бросает инструмент — и все обрывается. Он — музыкант, а не человек. Человек не может перестать звучать.
Он всегда должен петь свою человеческую душу, хотя бы тихо, чуть слышно… И если она грубая — петь грубо…
А эти культурные люди играют то, что им вздумается…
Пусть прежде всего будет правда. А из нее может потом произрасти и красота! Да, может.
Так думал он. Он довольствовался одной правдой.
— Вот я какая! — говорила она, и это восхищало его.
Он думал: — Это земля в меловом периоде. Что будет дальше?
Вот почему взял он ее под свою охрану, стал ее рыцарем.
Она повисла на его руке, прижалась к нему из страха перед своим Петруччио.
— Мне не надо, чтоб меня любили, — шептала она.
Было пять часов утра. Кому знакомо уличное утро? Эта ранняя утренняя жизнь жалких людей, променявших мягкое тепло постели на холодный воздух за 30 крейцеров, за 40, за 60… Из булочных несется чудесный, теплый запах. Что еще? На душе нерадостно. Как непохоже все это не то состояние, которое испытывают люди, когда солнце струит и рассыпает на улицах теплый свет, трепеща лучами…
Он привел молодую девушку к себе домой. У него была маленькая комната, но она носила печать его личности. Во-первых, она всегда была пропитана запахом айвы, 57 которая лежала в углу, в деревянном ящике. Во-вторых, чистотой своей она напоминала фламандскую живопись, а на окнах висели красивые занавески, прозрачные, вязаные, как старинные брюссельские кружева. Над кроватью висела великолепная гравюра «Тайная вечеря» Гебгарда.
На месте лица Иуды, на фоне полуоткрытой двери была наклеена толстая золотая медаль с художественно вырезанной на ней головой Спинозы.
— Этот смывает позор того. Он покрывает его своим чистым золотом, искупает его.
Таков был смысл этого.
Молодой человек положил несколько щепок душистого смолистого дерева в широкую светло-зеленую печь. Потом зажег их и положил сверху ряд чистых сухих дров.
Скоро пламя разгорелось. В комнате стало тепло и уютно.
Молодая девушка сидела обнаженная в углу у печки.
Молодой человек сидел за своим столом, против нее, и писал в тетради.
— De pudora. Стыдливость! Быть может, это лишь сознание той пропасти, которая лежит между тем, чем мы должны и можем быть физически, и тем, что мы есть. Мы тоскуем о нашем собственном «я», которое изуродовано жизненными тисками. Эта тоска называется стыдливостью. Не смотрите на меня, люди, каков я есть! Мы стыдимся всего того, что разрушает наше я, что препятствует его расцвету. Это грусть о том, что мы еще не «последние», не «богоподобные…» Но что скрывать тебе, если ты стала собственным идеалом, если ты сияешь, как воплощенная идея?! Ты опять в раю, и опять обнажаешь себя, как прежде… Красота убивает стыд! Быть может, это чувство заложено в нас для того, чтоб мы своим совершенством преодолевали его. Если ты таков, каким должен быть — сбрось с себя все покровы, победоносный!
— Что вы там пишете? — спросила девушка.
Он прочел ей и объяснил свои слова.
— Это — вы, — сказал он, — я только списал это с вас.
— Это правда, я люблю свое тело, — сказала она. — Я чту его, как святыню, и очень о нем забочусь. Для него нужно, например, чтоб я долго спала и чтоб никто меня не будил; ему нужна простая легкая пища и еще многое другое. Когда я просыпаюсь — печь у меня уже топится, и в комнате тепло. Посреди комнаты стоить большая ванна с холодной ключевой водой. Весело вскакиваю я с постели прямо в воду и лежу в ней пять минут. И потом — назад в постель… Ах, целый жизненный поток струится во мне!.. Потом я встаю. Мне бывает очень весело… Потом я ем куриный бульон с тремя яичными желтками, потом морскую рыбку и рокфор. Я пью только чистую воду, не курю, раз один господин сказал мне, что я тип эгоистки. Но кому я этим доставляю удовольствие — себе, или тем, кто думает: если ты таков, каким должен быть — сбрось с себя покровы, победоносный!?