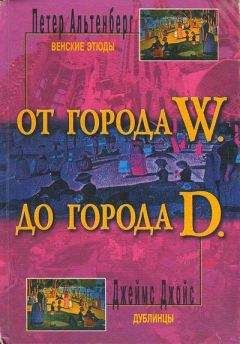Мать: — Мы этого не понимаем. М-me Б. ты бы это приятнее рассказал. Нас ты хочешь только сердить и осуждать.
Сын: — Герои — это Курвенал, верный до самой смерти слуга Тристана, Брангена смертельно грустная подруга Изольды, и бедный пастух, который на свирели выражает страдания Тристана Они уже не живут для себя. Как старики. И все-таки они молодые и сильные в любви. Свободные от страстей и желаний несут они на себе страдания других, оберегают их и умирают за них… У них христианские души. У Курпенала, у Брангены и у бедного пастуха еще при жизни как бы вырастают небесные крылья. И они простирают их, и парят, и защищают ими этих двух влюбленных, жалких рабов жизни, которые как милостыню вымаливают себе личное счастье и исполнение своих желаний. Они, как пресмыкающиеся, ползают и не могут подняться над своими желаниями! И к чему таких вводить в музыку! На органе их нельзя передать.
Гларис поникла годовой.
Мать: — Мы этого не понимаем Не правда ли, Гларис? Но у Альберта ораторский талант. Ты бы отлично мог сделать карьеру, если б захотел! Во всякой газете с удовольствием примут…
Отец: — Покойной ночи! Я устал Этот Вагнер расслабляет человека. Перестань, Альберт — опять Гларис не будет спать?.. Такие разговоры на ночь…
Мать: — Гедвиг, ступайте с барином! зажгите свечи, посмотрите, все ли в порядке. Пошлите ко мне кухарку со счетом Так ты, собственно, что говоришь, Альберт? Гларис, ты уж больше не слушаешь, конечно?..
Альберт: — Я говорю, что на все у нас теперь ложный взгляд. Единственный герой — бедный пастух, играющий на свирели и умиротворяющий людей своими звуками… У него самого ничего нет, а он одаряет других. Его песня, как небесная ласка сопутствует этому несчастному дураку Тристану, погибающему от своей страсти… Вот в чем геройство! Бескорыстная любовь! Как солнце любит землю, и дает ей, дает, пока не отдаст все свои золотые лучи и свое нежное тепло — и тогда само гибнет от холода и тьмы… А до тех пор оно с вечной кротостью будет улыбаться той, которая отнимает его жизнь — земле! Но все же, это — солнце, неисчерпаемо-богатый мир! Солнце!
Мать: — Отчего бы тебе, право, не писать в газетах?
Гларис, краснея: — Мама!
Мать: — Ну да. Что ж в этом такого? Здесь и слушать-то его некому! Кухарка, идите считать! Купите завтра опять этого же хлеба. Барин похвалил.
Гларис: — Прощайте, мама!
Брат: — Гларис… какая ты была сегодня красивая в театре! Но теперь ты побледнела и не в духе. От моих слов?
Гларис: — О нет! Отчего? Но у нас так много всего… того, другого… Твои мысли, конечно, очень хорошие. Я чувствую, что мы совсем не такие, как ты требуешь… И собственно — не хотелось бы даже никогда быть такими… Кто же захочет кончиться, прежде чем он начался?.. Твои слова как будто просто хотят убить молодость…
— Нет, Гларис, отчего молодость?
— Я не знаю. Такое что-то отвлеченное, неземное, на другой стадии, может быть…
Молчанье.
Брат: — Винкельман тоже почти богоподобный…
Гларис, краснея и радостно улыбаясь:
— Покойной ночи, Альберт! Какой ты хороший!.. Ты говоришь то, что я думаю…
Брат: — Желаю тебе увидеть его во сне, Гларис…
Гларис уходит, говоря: «Гедвиг должна меня проводить и раздеть, чтоб я хорошо спала».
Мать — сыну: — Мне кажется, ты совсем влюблен в Гедвиг. То-то ты проповедуешь нам пастушью свирель…
— Какое это имеет отношение?
— Хорошо уж, хорошо. Меня не заговоришь. Или ты меня за дуру считаешь?
— Вечно у вас одни только пошлости на уме!
— Ну, конечно. А ты — оратор. Громкие слова, идеалы… А какой толк из этого?
Альберт: — Думать о каком-нибудь предмете уже значит положить начало его развитию. Потом он может созреть. А если не забросить зерна — нечему и произрастать.
Думать — значить быть сеятелем самого себя! А когда будет жатва… кто знает?
………………………
Никого больше нет в столовой, кроме Гедвиг и Альберта.
Гедвиг: — Как хорошо вы это сказали — про героя…
— Вы — героиня нашего дома, Гедвиг! Поэтому вы и поняли меня. Всем вы даете покой, мир, отдых…
Потому что вы сами для себя ничего не желаете, — от нас, по крайней мере.
Она медленно убирает со стола.
— Гедвиг!
— Что угодно?
— Верите вы в то, что я говорил вам?
— Да. Надо верить. А что?
— Ничего. Надо.
Она убирает. Совсем медленно убирает. Он подходит к ней, берет ее руку, нежно гладит ей волосы…
— Гедвиг…
— Барин… о, барин!..
— Изольда!..
Она сидела с матерью близ киоска, пила густое желтое молоко и ела золотистый, свежий ситный хлеб со сливочным маслом и медом.
Был летний воскресный вечер.
В шесть часов пришел Альберт.
Она покраснела.
Альберт велел себе подать свежего душистого ситного хлеба с маслом и медом Молодая девушка положила руку на спинку его стула, и рука ее чуть касалась его.
Мать сказала: — Вы сегодня чем-то расстроены, Альберт!
— Человек должен двигаться вперед, а тут такая тина! — резко сказал он. — Одна дама, которая прочла мои очерки об истине, говорит, что мне бы следовало хоть одно лето пожить в Карлсбаде, в Мариенбаде — там, где бьется пульс жизни…
Молодая девушка сложила руки на коленях и побледнела.
— Настоящий писатель, дорогой мой… — начала мать.
— Нет, — перебил Альберт, — нельзя творить из ничего! Вы этого не понимаете… Разве вы знаете, что нас возбуждает? У каждого свой собственный источник вдохновенья! Иногда женщины бывают им.
Но когда они им бывают?
Меня, например, вдохновляют глазки двенадцатилетней Франци!
Молодая девушка опустила глаза.
— Да, это правда! — жестко сказал он. — Это выражение нетронутой еще, первобытной души — оно опьяняет меня!
В такие минуты молодая девушка видела в этом мечтателе и идеалисте своего врага, который топтал ее нежную душу.
Она была несправедлива к нему.
Но разве она это знала?
Она вся жила им, им одним…
Раз она сказала: «Мне кажется, что я когда-нибудь буду ему немного нужной… Поэтому я и живу»…
Мать считала свою дочь мученицей. Сама она испытывала то же самое, но ее чувства были эгоистичнее. Она ненавидела идеалиста, который хотел «двигаться вперед» и которого опьянили глазки двенадцатилетней Франци.
— Пойдемте отсюда, — сказал Альберт.
Они медленно пошли по тихим, теплым улицам.
Все молчали.
Альберт шел около молодой девушки.
Улица, угловой дом, поворот, улица, угловой дом, ворота, тихое крыльцо, тихая лестница, звонок, тихая передняя, тихая гостиная.
Сумерки.
Альберт сел в кресло.
Молодая девушка села к окну.
Альберт неподвижно смотрел в одну точку перед собой.
Молодая девушка тихо заплакала.
Она плакала, плакала…
Мать тихонько входила в комнату и опять выходила.
Это был летний воскресный вечер, и молодая девушка ждала его целую неделю — и целую неделю радовалась ему.
Девочка упражнялась на рояле.
Ей было 12 лет, и у нее были чудные, бархатные нежные глаза.
Он тихо ходил взад и вперед по комнате.
Он остановился — прислушался и испытал странное чувства.
Это было несколько удивительных тактов, которые постоянно возвращались.
И маленькая девочка извлекала из них все, что в них было изложено автором Как будто взрослый человек вдруг просыпался в ребенке…
— Что ты играешь? — спросил он.
— Отчего ты спрашиваешь… Это мой «этюд Альберта» Bertini № 18. Когда я его играю — я всегда думаю о тебе…
— Почему?
— Не знаю… но я не могу не думать…
Как будто женщина вдруг просыпалась в этом ребенке.
Он опять стал тихо ходить взад и вперед.
Маленькая девочка продолжала свои упражнения: Bertini № 19, Bertini № 20, Bertini № 21, 22 — но в них уже не звучала душа.
Было семь часов вечера.
Теплый, теплый вечер 19-го июня.
По улицам лениво ползло зловонное городское лето. Но в этом зеленом уголке за золотой оградой было как в деревне. Цветущие миндальные деревья, белые акации, желтые лилии благоухали.
На маленьких круглых лужайках лежали темные сплошные гирлянды из блестящей бордюрной зелени.
Это было декоративное искусство, культура.
Но повсюду желтели разбросанные в траве одуванчики.
Это не было искусство. Это была природа.
Они сидели на гнутой садовой мебели.
На молодой даме было шелковое гелиотроповое платье. Широкие шелковые рукава были обшиты желтыми кружевами. Из них выглядывали руки — тонкие белые руки.