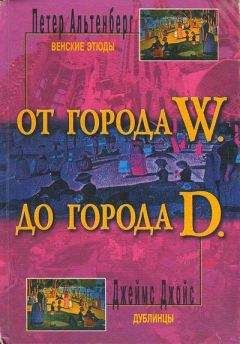Молодой человек, сидящий справа от нее, видел в этих руках живое произведение искусства; — они были такие тонкие, белые и так быстро двигались.
Каждый палец был похож на гибкую, стройную балерину, а в кисти все маленькое произведение искусства двигалось как на шарнире из стали и каучука.
Раз эта молодая дама сказала одному господину (она была тогда в светло-зеленом шелковом платье с белыми оборочками): — Что значит быть порядочной женщиной? что это — заслуга? достоинство? Я знаю только, что если жить просто — то нет времени ни для меланхолии, ни для скуки, ни для желаний… И я всегда буду такой! Я рада, когда любуются моим платьем, хвалят мой вкус… Я не нежничаю с моим мужем, не смотрю на него влюбленно, но мне хорошо, как маленькому ребенку, которого кормит мать. Право, чувствуешь себя иногда маленьким животным… Так я живу! И я думаю, все счастливые женщины так живут. Я не знаю, как жить иначе… Может быть, лучше переживать бурю страстей? Но ведь это не есть счастье. Счастье — это успокоившееся, остановившееся движенье! Вот что такое счастье!..
А теперь она сидела в шелковом гелиотроповом платье в городском саду между своим мужем и Альбертом и вдыхала прохладную влагу лужайки и сладкий запах миндальных деревьев и акаций.
— Давайте, будем сочинять, — сказала она.
— Давайте… — сказал Альберт.
— Они сидели на трех гнутых железных стульях… — начала молодая женщина.
— Воздух был насыщен ароматом акаций, — сказал Альберт.
— Нет, — перебил его муж, — воздух был насыщен запахом батистовых платьев маленьких девочек, пылью и резиновыми мячами.
Она — Мария устремила глаза на флаг, развевающийся на башне ратуши.
Он: — Альберт устремил глаза на флаг, развивающийся на башне ратуши…
Она (краснея): — Вы не должны повторять мои слова. Вы должны сочинять сами.
Он: — На флаге ратушной башни встречались их взоры…
………………………
— Здравствуй, Франци! — сказал муж, прерывая поэтов.
Маленькая девочка была в розовом платье, сшитом на подобие рубашки. Ее круглые ручки были обнажены от плеча, и шея, и розовые ножки также.
Она стояла прямая, как тростник, и отвечала: — Здравствуйте.
Потом она села на колени к молодому поэту, который придумал «встречу взоров на башенном флаге». Он обнял ее одной рукой и нежно прижал к себе.
— Bertini, № 18, — шепнул он ей на ухо.
— Молчи! — сказала она и вся вспыхнула. Он встал и простился с мужем и женой.
— Мне надо разыскать m-me М., — сказал он.
— Да, идите! — ответила молодая женщина, — вас наверно уже ждут…
Она улыбаясь протянула ему свою прекрасную руку. Он почувствовал прикосновение ее мятой, теплой, нежной кожи. Когда он выпустил ее руку — молодая женщина как бы еще ощущала его просьбу: «О, дай мне подержать ее еще немного, немного… Ведь тебе это ничего не стоит!..»
— Я провожу тебя, — сказала маленькая девочка и повисла на его руке.
Они шли, держась за руки, по темным аллеям, насыщенным запахом цветов. Он остановился и поклонился. Перед ним сидела дама с тонкими нервными чертами лица и молодая девушка с пепельными волосами и бледным благородным личиком. На ней была светло-коричневая соломенная шляпа с белыми хризантемами.
— Мы ждем вас уже целый час, — сказала мать, — где вы были?
— M-elle[15] Франци, — сказал молодой человек, представляя им свою маленькую приятельницу в розовой рубашке.
Он не ответил, где он был.
Девочка не отрываясь смотрела на молодую девушку.
Это было детское предчувствие, детское ясновидение…
— Мне надо идти к папе… — сказала она.
— Нет, посиди еще немного, — сказал Альберт.
Он сел подле молодой девушки с бледным лицом и посадил девочку к себе на колени.
— Вы очень любите Альберта? — спросила ее молодая девушка и покраснела.
— Больше всего дедушку, потом еще одного человека… (это была ее покойная мать), а потом — «его»…
— А папу? — спросила пожилая дама.
— Папу — потом., его гораздо меньше… — уверенно и твердо ответила она.
— Ты маленькая дурочка, — сказал Альберт и поцеловал девочку.
Она нежно прижалась к нему. Потом спрыгнула с его колен и, сказав: «прощайте!» убежала.
— Франци! постой! — крикнул он ей вслед.
— Что? — отозвалась девочка в розовой рубашке.
— Ничего! — ответил он.
— Ваша маленькая приятельница, кажется, очень любит вас, — сказала молодая девушка.
— Вы портите даже одиннадцатилетних детей! — раздраженно заметила мать.
— Я даю ей то, что ни живой отец, ни умершая мать не могут ей дать — любовь.
— Я бы запретила всем женщинам, начиная с девятилетнего возраста, подходить к вам… — сказала мать, но она при этом подразумевала: — всем, кроме двух… — ее дочери и ее самой.
«Почему? — думал он, — я знаю одну молодую женщину 23-х лет; у нее белые, дивные руки, и наши взгляды встречаются на башенном флаге… Что я ей делаю дурного? Какой вред ей приношу?..» Молодая девушка неподвижно смотрела перед собой на дорожку, усыпанную песком.
— Ты сердишься, что я тебя заставил ждать? — шепнул ей Альберт.
Она молча смотрела на дорожку, усыпанную песком.
Она думала: «Сержусь?., я сержусь?.. Где оно — это счастливое время, когда человек так богат, что может еще сердиться… Королева может сердиться, чтоб испытать потом радость примирения, а не нищие…» Но она думала это гораздо проще, трогательнее… Собственно говоря, она совсем не думала, а только ощущала это. И смотрела на дорожку, усыпанную песком, на маленькую круглую лужайку с темными гирляндами и яркими одуванчиками, на позолоченные зубцы садовой решетки… Белый цвет миндальных деревьев, белые акации, желтые одуванчики наполняли благоуханием теплый душный июньский воздух…
— Жизнь богата и прекрасна, — сказал он. Но это была его собственная «внутренняя жизнь». Ибо жизнь вокруг была убога и буднична. Но, может быть, благоухающий цвет миндаля и белых акаций тоже — наша «внутренняя жизнь», «наш внутренний мир?» И белая, нежная рука, и улыбка ребенка, и измученная женская душа? Да, тоже.
— Послушай, мой друг, возьми меня с собой сегодня вечером, когда пойдешь гулять. Или тебе быть может, приятней быть одному?
— Да — я люблю быть один…
Молчание.
— Видишь, а я могу наслаждаться природой, только когда ты со мной…
— Да?
— А ты — нет, ты — нет…
— Я — нет.
Молчание.
— Прости меня, мой друг, прости, дорогой… И иди, иди… Мы ужинаем ровно в 9. Впрочем, ты не спеши — мы можем подождать. Гуляй, сколько хочешь.
Он ушел.
Он вернулся ровно в 9.
Ясность, спокойствие, силу влила в него безмолвная природа; все чуждое ему отошло; все силы души слились в нем воедино и делали его неуязвимым.
— Ты бледная… — сказал он.
— Ты ничего не ешь…
— Ты нездорова? — сказал он тревожно.
Молчание.
— Тебе было хорошо? — спросила она кротко.
— Хорошо, — сурово ответил он.
Она поцеловала его руку и тихо сказала: «Прости меня» и попробовала есть.
Ясность, спокойствие, сила уплывали из души и исчезали бесследно.
И он сказал: — В следующий раз пойдем гулять вместе. Будет лучше…
— Лучше? правда, лучше?
Лицо кроткой притеснительницы прояснилось.
Ей нельзя было взять пуделя с собой в театр. И пудель остался со мной в кафе, где мы ждали нашу госпожу.
Он сел так, чтоб иметь перед глазами входную дверь, и я нашел, что это разумно, хотя и несколько преждевременно, потому что еще не было половины восьмого, а мы должны были ждать до половины двенадцатого.
Так мы сидели и ждали.
Шум проезжающего экипажа каждый раз будил в нем надежду, и я говорил ему каждый раз: — Это не она, она еще не может вернуться. Сообрази — ведь это невозможно!
Иногда я говорил ему: — Наша добрая, прекрасная госпожа…
Он изнывал от тоски и жалобно смотрел на меня:
— Придет она или не придет?
— Придет, придет… — отвечал я.
Раз он покинул свой сторожевой пост, подошел ко мне и положил лапы мне на колени. Я поцеловал его. Он как будто говорил: — Не скрывай от меня правды — я все могу перенести!
В десять часов он начал жалобно выть.
Я ему сказал: — Ты думаешь, мой друг, что мне легче? Надо уметь владеть собой!
Но он не слушал моих увещаний и продолжал жалобно выть.
«Придет она или не придет?»
«Придет, она придет»…
Он вытянулся на полу, а я сидел согнувшись на стуле. Он не выл больше, он не спускал глаз с двери, а я неподвижно смотрел в одну точку. Пробило половина двенадцатого. И она пришла. Ясная и спокойная, она вошла своей легкой, скользящей походкой и кивнула нам, ласково улыбаясь.