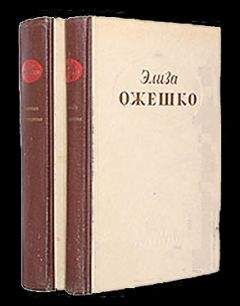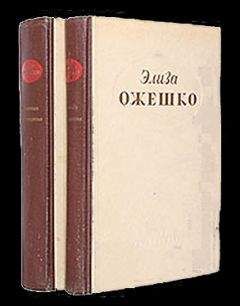Я спросила ее о здоровье.
— Не особенно, не особенно, — ответила она, — по ночам не сплю, глаза изменяют, ноги начинают пухнуть… должно быть, уж конец мой приближается, и я благодарила бы за это господа бога, если б не боялась умереть когда-нибудь ночью, одиноко… не видеть человеческой руки, которая подала бы мне каплю воды и одарила бы меня на далекую дорогу добрым словом…
Когда она говорила это, ее ввалившиеся губы задрожали. Я начала было говорить, что во всяком случае ее родственники, брат, его дети…
Она трясущеюся рукой сделала мягкий, но отрицательный жест и перебила:
— Э, пани, извините меня! Я не надеюсь, чтоб кто-нибудь из них пришел ко мне в последнюю минуту с помощью и утешением. Брат относится ко мне по-братски… нечего говорить… Дает мне аккуратно несколько рублей в месяц, чтоб я не умерла с голоду и не пошла бы нищенствовать к костелу… Те деньги, которые я получила от него, давно разошлись. Триста рублей… не бог весть какое сокровище… Я хворала, и ту бедную женщину, у которой жила, на свой счет похоронила… ну, деньги и разошлись. Я давно живу у брата на милостыне — сама зарабатывать ничего не могу — и я готова была бы удовлетвориться жизнью и тем, что брат мне дает, если б не этот страх и печаль, что я так одинока.
Потом она рассказала мне, что брат навещает ее два раза в год, да и то придет на минутку, — он так занят и времени у него так мало. К нему она заходила лишь один раз, не надолго, и только тогда видела невестку.
— Что ей в глаза лезть: не любит она меня! Бог с ней!
— А дети вашего брата навещают вас от времени до времени?
Голова ее закачалась и долго продолжала качаться. На ее полинявшие, но все-таки светившиеся на дне голубым сапфиром глаза набегали слезы.
— Янка и Манюсю сначала присылали, но когда Янек начал ходить в школу, а Манюся подросла, перестали присылать. Младших я совсем не видала…
Когда она упоминала имена своих любимцев, которых так долго и нежно нянчила на своих руках, то слезы, наполнявшие ее глаза, дрогнув, потекли из-под желтых ресниц и медленно покатились по морщинистым щекам. Но вообще она не жаловалась, никого не упрекала и спокойно начала мне показывать свои работы. То были детские чулочки, башмачки, кофточки, все вязанные на спицах и рассчитанные на разный рост.
— Когда у меня остается какой-нибудь грош от обеда или квартирной платы, я покупаю себе гарус, шерсть, вожусь над этой мелочью, а потом посылаю с женой сторожа моим милым птенчикам. Пусть знают, что у них есть тетка.
Она показала мне свои ноги, — они опухли от ступни до колен и, как она говорила, очень болели; а потом, с усилием поднимаясь с табурета, прибавила:
— Сегодня я еще ничего не ела. Извините, но мне надо затопить печку и сварить себе обед…
Она дотащилась до глиняной печки, зажгла пару щепок и поставила воду в маленьком горшочке. Напрягая все силы своей тщедушной груди, она начала раздувать огонь, а когда он разгорелся и вода в горшочке закипела, всыпала в него горсть крупы и щепотку соли и, все сидя на полу, обратилась ко мне с вопросом:
— Вы были у моего брата?
Я ответила утвердительно. Она помолчала с минуту, потом, опустив голову на руку и смотря на огонь моргающими глазами, заговорила:
— Я слышала, что теперь они живут очень согласно и весело. Что же тут удивительного? Дела их идут хорошо, живут они, кажется, ладно… Дом свой убрали как игрушку, принимают важных людей… детки… пятеро…
После минутного молчания она добавила:
— У Тыркевичей вы, вероятно, не были и, может быть, не слыхали, что пан Лаурентий богатеет с каждым днем и пользуется большим почтением в городе… Я слышала, что жена водит его за нос, но, кажется, верна ему, а ему лестно, что он женат на такой хорошенькой. И он души в ней не чает, и хорошо ему живется на свете!
Она замолкла. Отблеск огня играл на ее седых волосах и золотил желтое лицо, еще рельефнее обнаруживая его худобу и все морщинки. Проговорив последние слова, она окинула взглядом наклонные стены, напоминавшие гробовую крышку, вешалки, на которых меланхолически повисли старые лохмотья, убогую кровать, покрытую дырявым одеялом, потом посмотрела на стену за окошком, не допускавшую к ней ни одного солнечного луча, затем опять обратилась лицом к огню и прошептала:
— Четырнадцатая часть! Четырнадцатая часть!