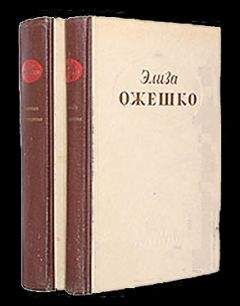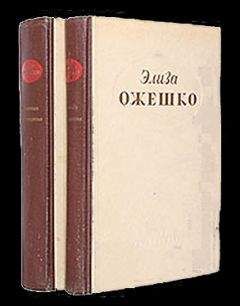Новые благодарности и новый дружный крик: виват! Пан Клеменс сжимал гостя в объятиях, а Елька прыгала вокруг двух мужчин, хлопала в ладоши и кричала:
— Не задушите только друг друга, господа! Не задушите друг друга!
Худая, бледная женщина смеялась до слез, смотря на всю эту сцену, и сквозь смех все повторяла:
— Слава богу! Слава богу! Вот весело у них! Еог у них весело!
А панна Теодора с недопитой рюмкой склонилась надо мной и шепнула мне на ухо:
— Как весел день моего обрученья! А вы заметили, что во время обеда он все смотрел на меня? С кем ни говорит, а смотрит все на меня. Дорогой мой! Птичка моя! Орел мой!
Глаза ее блестели таким страстным огнем, какого я не замечала в них раньше, и казалось, что вот-вот она бросится на шею к человеку, с которого она не спускала своего взгляда.
Наконец тосты, смех, поцелуи и рукоплескания кончились. В комнату вошла горничная и с помощью нарочно нанятого на этот день мальчика вынесла стол вместе с посудой; пан Клеменс, возбужденный впечатлениями и обильным обедом, опустился в кресло и тяжело переводил дыханье. Мать хозяйки проскользнула в спальню и легла на постель дочери, а Елька села возле нее на пол и что-то шептала ей на ухо, то смеясь, то строя печальные мины.
В гостиной на старомодном желтом диване сидели пан Лаурентий и пани Ядвига. Она, вся раскрасневшаяся, необыкновенно оживленная, кокетничая, что-то тихо говорила ему, то расспрашивала о чем-то и грозила пальцем, то поощряла дружеским взглядом и жестом; он, развалившись, в небрежной позе, разгоряченный вином, а может быть и предметом разговора, все целовал у нее руку, заглядывал ей в лицо, бил себя в грудь, возносил глаза к потолку и вздыхал.
Панны Теодоры не было ни в гостиной, ни в спальне, ни в кухне. Должно быть, в первый раз в жизни она не присмотрела за уборкой столовой посуды, не прибрала остатков обеда, не оделила детей нарочно приготовленными для них гостинцами. Нет, она не забыла сделать все это, а поступила так умышленно. Наверно, она думала, что этот день — ее праздник, ее великий праздник, и что она имеет право посвятить его самой себе. Когда, возвращаясь домой, я проходила через двор, то видела, что она сидит в садике, в хмелевой беседке. Она выполняла программу, которую сообщила мне вчера. Она сидела одиноко, на месте, которое напоминало ей первое объяснение в любви, и ожидала второго.
Прошел час. Оставив какую-то работу, я выглянула в окно. В беседке сквозь светлозеленую сетку уже разросшегося хмеля просвечивала грязная зелень барежевого платья, да слегка раскачивалась голова, непомерно обремененная полураспустившимися, всклокоченными локонами.
Спустя еще час широкий луч заходящего солнца облил беседку и осветил ее глубину, а в этом розовом свете ясно была видна сидящая на скамье женщина с разгоревшимся лицом, с неподвижно устремленными глазами на сверкающие, как рубин, окна флигеля…
Солнце зашло; прозрачный сумрак майского вечера мало-помалу начал охватывать садик, а в беседке среди молодых листьев, обвивавших стройные столбики, попрежнему неясным силуэтом вырисовывалась одинокая фигура женщины; у ее ног, свернувшись в клубок, лежала большая пестрая собака Филон. Вдруг дверь флигеля распахнулась, Лаурентий Тыркевич, сияющий, в цилиндре, не особенно правильно надетом на голову, сбежал с крыльца и скрылся за воротами.
Тогда женщина, сидевшая в беседке, вскочила на ноги, остановилась неподвижно на месте и долго смотрела вслед уходящему. Когда он исчез за воротами, она долго стояла на том же месте, как бы охваченная изумлением и разочарованием; потом медленно пошла по направлению к флигелю.
Я хорошо знаю, что произошло потом.
Когда Теодора остановилась на пороге маленькой гостиной, вся семья сидела вокруг стола и разговаривала тихо, но с большим оживлением.
Елька была взволнована, на лице ее виднелись следы слез, пан Клеменс целовал руки жены, а она обнимала его, но, завидев панну Теодору, сверкнула глазами и крикнула:
— Ах, Теося! Где ты так долго пропадала? Ты и не знаешь ничего!. Поздравь Ельку, — она выходит замуж. К ней присватался пан Тыркевич и уже получил ее согласие.
Панна Теодора подскочила к столу и крикнула:
— Неправда! Ты лжешь!
— Спроси у брата, — спокойно ответила пани Ядвига.
— Прежде всего, Теося, — важно начал пан Клеменс, — я прошу тебя не говорить с моей женой так невежливо…
— Что мне твоя вежливость! — перебила панна Теодора. — Если ты так заботишься о своей жене, то почему не позаботишься о сестре и позволяешь, чтоб ей бросали в глаза такую ложь?
— Какую ложь? — начал пан Клеменс. — Это сущая правда, и нужно было быть такой дурой, как ты, чтоб не верить этому.
— Ельця, покажи ей обручальное кольцо, — обратилась к сестре пани Ядвига.
Елька подняла кверху белую руку, на которой сверкало сапфировое кольцо. То было кольцо, которое пан Лаурентий всегда носил на мизинце.
Теодора на минуту окаменела, но потом крикнула снова:
— Неправда! Неправда! Ты лжешь! Лжете вы все только для того, чтобы донять меня. Это не обручальное кольцо! Она его так взяла! Украла, может быть… почем я знаю!
— Молчать! — возвысил голос пан Клеменс. — Как ты смеешь говорить что-нибудь подобное о сестре моей жены?
— Оставь, Клеменс, она сошла с ума! — кричала пани Ядвига, а Елька смеялась до слез и все повторяла:
— Не кольцо я украла, не кольцо, а самого ее жениха! А портниха присоединила к общему хору свой мягкий и сочувственный голос:
— Может быть, вы воды выпьете?. Там на комоде стоит графин с водой…
Но панна Теодора безумствовала попрежнему. Точно желая оглушить самое себя, постоянно хватаясь за голову, она кричала:
— Лжешь ты, ехидная! Лжешь, змея! Лжешь ты, выродок! Все вы лжете!
В это время на лестнице послышались торопливые мужские шаги.
— Вот и пан Тыркевич возвращается! — сказала пани Ядвига и прибавила: — Знаешь что, Теося? Перестань кричать и спроси у него самого, правду ли мы говорили или нет.
Тыркевич уже стоял на пороге. Теодора бросилась в самый темный угол. Впрочем, и во всей комнате было уже темно. Гость, утомленный быстрой ходьбой, держал в руках большую красивую коробку с конфетами. Он перешел комнату, несмотря на темноту, отыскал Ельку, поставил перед ней конфеты, а сам склонился к ручке, которую она подала ему.
— Дорогие мои! — наконец воскликнул он, выпрямляясь, — ради бога, дайте огня! Дайте мне насмотреться на мою будущую жонку!
Пани Ядвига, извиняясь за небрежность, бросилась зажигать лампу, а Теодора выскользнула из своего темного угла и ушла из флигеля.
Я видела, как во мраке, точно молния, она промелькнула по двору, а через минуту над моим потолком раздался крик, смешанный с рыданием:
— Боже милосердный, смилуйся надо мной!
И больше ничего. В течение всей ночи в зальце царила полнейшая тишина, не слышно было ни стонов, ни рыданий, а когда я на другой день утром выходила в город, маленькое окошко было плотно закрыто, и за его стеклами виднелись только красные грудки снегирей.
Пан Клеменс, возвратившись из типографии, послал сестре с горничной обед и даже чай, который нарочно приказал заварить для нее, потом сам пошел в зальце и пробыл там довольно долго. Вниз он спустился с видом сконфуженным и озабоченным, но на дворе его встретили две молодые женщины, подхватили под руки, повели в сад и долго прохаживались с ним, хихикая и шепча ему что-то на ухо. Перед вечером приехал Тыркевич с двумя экипажами и забрал с собой всю семью на загородную прогулку. Поехали и дети, даже Филон и тот увязался за экипажами.
Было уже поздно, а Коньцы еще не возвращались, потому что после прогулки должны были заехать к родственникам жениха. В доме было тихо, только молодая горничная распевала что-то, сидя за шитьем у маленькой лампы, да на балюстраде крыльца жалобно мурлыкал белый котенок. Вдруг в мою комнату вошла панна Теодора. На ней было обычное черное платье, а ее волосы были небрежно скручены в одну косу, а не завиты в локончики. В течение одного дня она постарела лет на десять. Щеки ее обвисли и покрылись морщинами, глаза угасли, руки дрожали.
— Я пришла проститься с вами, — сказала она тихим, бессильным голосом, — завтра я переезжаю из моего зальца…
Известие это удивило меня. С первого раза я подумала, что панна Теодора в гневе и раздражении добровольно покидает дом брата, и хотела отговорить ее от этого.
Но она горько усмехнулась.
— Наверно, — перебила она меня, — если б я могла, то осталась бы… хотя жить мне пришлось бы еще хуже, чем прежде, но… скитание по свету… это страшно… голод — еще страшнее, и, кроме того, я так привыкла к родным стенам… Может быть, я осталась бы тут до конца… Господи, когда ж придет он!.. Но не могу, меня выгоняют отсюда… В зальце будет жить мать невесты.