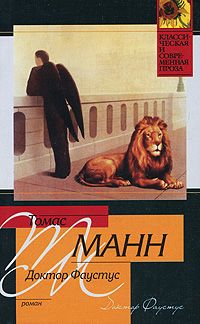Ознакомительная версия.
Да и для кого бы он стал стеснять себя? Он виделся с Жанеттой Шейрль, с которой проходил привезённые ею музыкальные пьесы семнадцатого столетия (не могу не вспомнить Чаконну Якопо Мелани{1}, буквально предвосхищающую одно место из «Тристана»), видел время от времени Рюдигера Шильдкнапа и смеялся с ним, причём я не мог удержаться от тоскливой, щемящей сердце мысли, что остались лишь эти две пары одинаковых глаз, а чёрных и голубых больше нет… Видел, наконец, меня по субботам и воскресеньям, когда я приезжал к нему, — вот и всё. К тому же он мог общаться с кем-либо лишь считанные часы, ибо работал, включая и воскресенье (которое никогда не «чтил»), по восемь часов в день, а так как к ним прибавлялись ещё и часы послеобеденного отдыха в тёмной комнате, то во время моего пребывания в Пфейферинге я в основном бывал предоставлен самому себе. Боже сохрани, я не сожалел об этом! Я был близко от него, близко от источника возникновения любимой мною в боли и страхе кантаты, что уже в продолжение полутора десятилетий лежит как мёртвый, потайный и подзапретный клад, и лишь сокрушительное освобождение, сейчас нами претерпеваемое, быть может вернёт его к жизни. Были времена, когда мы, дети тюрьмы, видели в ликующей песне «Фиделио» или в Девятой симфонии зарю освобождения Германии, её самоосвобождения. Теперь годится нам только эта песнь; только её одну мы можем петь от души: плач осуждённого грешника, леденящий душу плач человека и плач бога, который, хотя запел его смертный, распространяется всё шире, словно охватывая мироздание, и страшнее этого плача не было песни на земле.
Плач, плач! De profundis{2}, которое мне, столь преданно любящему его создателя, представляется беспримерным. Но разве с точки зрения творческой, музыкально-исторической и с точки зрения достигнутого личного совершенства нет здесь прямой торжествующей победной связи со страшным даром возмездия и искупления? Не есть ли это пресловутый «прорыв», так часто фигурировавший как проблема, как парадоксальная возможность в нескончаемых наших обсуждениях судеб искусства, его нынешнего состояния, — новообретение, не хочу произносить этого слова, но скажу точности ради: реконструкция выражения, наивысшего и глубочайшего самоизъявления чувства на той ступени духовности и строгости формы, которая неизбежно должна была быть достигнута, чтобы холодный расчёт обернулся экспрессивнейшим криком души, чтобы эта безотчётно доверчивая человечность стала свершением?
Я облекаю в вопросы то, что является всего-навсего описанием факта, равно объясняющегося как содержанием, так и формой творения. Этот плач — а именно: о вечном, неисчерпаемо горьком человеческом плаче, о мучительном Ecce homo{3} идёт здесь речь, — этот плач есть выражение как таковое; можно смело сказать, что всякое выражение по сути своей — плач, так же, как музыка, поскольку она осознает себя как выражение, на заре новейшей своей истории становится плачем и «Lasciatemi morire»[256], плачем Ариадны{4} и тихо вторящим ей жалобным пением нимф. Недаром Фаустова кантата стилистически столь явно и несомненно примыкает к Монтеверди и семнадцатому столетию, когда музыка — опять-таки недаром — была до манерности пристрастна к отголоску, к эхо: эхо, голос природы, отвечающий на звук человеческого голоса, и разоблачение его как природного звука — это и есть жалоба, плач, сокрушённое «ах, да» природы над человеком и искусительное возвещение о его одиночестве, — так же, как, наоборот, жалобная песнь нимф сродни отголоску природы. В последнем и величайшем творении Леверкюна эхо — этот любимый приём эпохи барокко — часто с несказанной тоской применяется композитором.
Титаническая эта жалоба, говорю я, этот плач неизбежно должен был стать экспрессивным творением, выражением чувств, почему он и стал песнью освобождения, подобно тому, как старая музыка, к которой в нём переброшен мост через века, стремилась обрести свободу выражения. Только что диалектический процесс (благодаря которому — на определённой ступени развития, обусловившей это произведение — строжайшая связанность оборачивается вольным голосом наивысшей страсти, порождает свободу), этот процесс в своём логическом развитии бесконечно сложнее, бесконечно поразительнее, чем во времена мадригалистов. Здесь я хочу отослать читателя к разговору между Адрианом и мной, состоявшемуся в Бюхеле в день свадьбы его сестры, когда мы с ним ходили взад и вперёд по берегу Коровьего Корыта и он, страдая от головной боли, развивал мне свою идею «строгого стиля» по примеру того, как в песне «О любимая, как ты зла» мелодия и гармония всецело определены разработкой пятизвучного основного мотива, символического сочетания букв h e a e es. Он указал мне тогда на магический квадрат музыкального стиля или техники, создающей предельное разнообразие звуковых комбинаций из одного и того же неизменного материала, так что не остаётся ничего нетематического, ничего, что не было бы вариацией всё того же самого. Этот стиль, эта техника, утверждал он, не допускает ни единого звука, который не выполнял бы функции мотива в конструктивном целом, — так что ни одной свободной ноты более не существует.
Разве я не отмечал, говоря об апокалипсической оратории Леверкюна, субстанционного тождества между беспримерно блаженным и беспримерно ужасным, внутренней однородности детского хора ангелов и адского хохота? Здесь, к мистическому ужасу того, кто это заметит, осуществлена утопия формы ужасающе рационалистической, которая в кантате о Фаустусе становится уже всеобъемлющей, охватывает всё творение и, если можно так выразиться, без остатка отдаёт его на съедение теме. Это титаническое «Lamento»[257] (оно длится час с четвертью) глубоко нединамично, лишено нарастания и какого бы то ни было драматизма — подобно концентрическим кругам от брошенного в воду камня, которые, один в другом, распространяются всё дальше, по-прежнему оставаясь кругами. Грандиозные вариации плача — как таковые негативно родственные финалу Девятой симфонии с её вариациями ликования, — они ширятся кольцами, и каждое кольцо неудержимо тянет за собой другое, образуя части, большие вариации, соответствующие текстовым периодам или главам книги и в себе опять-таки являющиеся всего лишь чредой вариаций. Но все они восходят, как к теме, к в высшей степени пластичному основному сочетанию звуков, навеянному определённым местом текста.
Все, конечно, помнят, что в старой народной книге, рассказывающей о жизни и смерти великого мага, отрывки из которой Леверкюн искусно положил в основу отдельных частей своей кантаты, доктор Фаустус, когда приходит его час, сзывает своих друзей и адептов — магистров, бакалавров, студентов — в деревню Римлих под Виттенбергом, весь день щедро поит и кормит их, на ночь ещё пьёт с ними прощальную чашу и затем в смятенной, но полной достоинства речи поверяет им свою судьбу и то, что сейчас настанет его конец. В этой «Oratio Fausti ad studiosos»[258] он обращается к ним с просьбой, когда они найдут его тело, удушенное и мёртвое, милосердно предать его земле, потому что, говорит Фаустус, он гибнет как дурной, но добрый христианин: добрый, ибо полный раскаяния, и ещё потому, что уповает на спасение своей души; дурной, так как знает, сколь страшный конец ему предстоит и что чёрт хочет и должен завладеть его телом. Эти слова: «Гибну как дурной, но добрый христианин» — составляют главную тему вариационного творения Леверкюна. Двенадцать слогов в этой фразе. Им соответствуют все двенадцать тонов хроматической шкалы; в ней применены и использованы всевозможные интервалы. Всё это музыкально наличествовало и действовало, прежде чем было исполнено текстуально хором, заступающим место соло (в «Фаустусе» вообще нет сольных партий). Напротив, до середины эта тема идёт на спад в духе «Lamento» Монтеверди, повторяя характер его модуляций. Она лежит в основе всего, что здесь звучит, вернее — она лежит почти как тональность за каждым звуком и звукосочетанием и создаёт тождество в многоразличии, то самое тождество, которое царит в кристальном хоре ангелов и адском вое «Апокалипсиса» и здесь становится уже всеобъемлющим, формоорганизующим началом предельной чистоты. Это тождество уже не знает ничего нетематического, в нём тотально господствует распорядок материала, так что внутри его идея фуги становится чем-то бессмысленным: всё равно ни одной свободной ноты уже не существует. Но этот распорядок отныне служит более высокой цели, ибо — о чудо, о сатанинская шутка! — именно благодаря абсолютности формы музыка как языковое выражение обретает полнейшую свободу. Грубо говоря, в известном звуково-материальном смысле работа здесь кончилась ещё до того, как началась композиция, и эта последняя ничем уже не стеснена — иными словами, она предана во власть выражения, которое вновь найдено по ту сторону конструктивного или внутри его полнейшей строгости. Творец «Плача доктора Фаустуса» в пределах заранее организованного материала может проявлять себя субъективно, не заботясь о предрешённой, уже заданной конструкции, а потому это наиболее строгое его творение — творение, максимально рассчитанное и в то же время предельно экспрессивное. Обращение к Монтеверди и к стилю его эпохи и есть то, что я назвал «реконструкцией выражения» — выражения в его первоначальном исконном смысле, выражения как жалобы.
Ознакомительная версия.