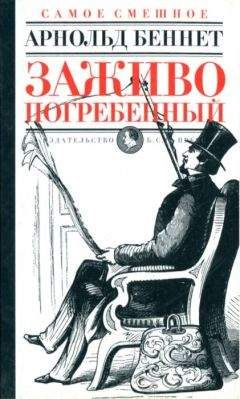— Так чего ж вы тут-то делаете? — крикнула она. — Я-то подумала, что с новым хозяином вы тут. А один-то — зачем?
— Ах, — он совершенно растерялся, — мне казалось, место подходящее. И я случайно сюда попал.
— Да уж, подходящее! — укорила она строго. — В жизни подобного не слыхивала!
Он понял, что её обидел, причинил ей боль. Чувствовал, что требуется изобрести разумное оправдание, но ничего такого не изобреталось. И от смущенья он сказал:
— А не пойти ли нам поесть? Мне и впрямь надо подкрепиться, верно вы говорите, что-то я проголодался. А вы?
— Где? Тут? — спросила она в ужасе.
— Да. Почему бы нет?
— Ну…
— Так идем же! — сказал он с милой непринужденностью и повел ее к восьми стеклянным вращающимся дверям, которые вели к salle à manger[9]Великого Вавилона. При каждой двери стояла живая статуя величья, украшенная золотом. Мимо этих статуй она прошла не дрогнув, но когда увидела сам зал, окутанный сверхблагородной тишиной, полный платьев, шляпок и всего такого, о чем вы читаете в «Ледиз Пикториал»[10], и плывущий в дальнем окне флаг на мачте, она вдруг застыла. И разлетевшийся к ним метрдотель с тяжелой цепью поперек груди тоже вдруг застыл.
— Нет! — объявила она. — Мне что-то не хочется тут кушать. Правда.
— Но почему?
— Ну, не хочется и всё. Может, еще куда-нибудь сходим?
— Конечно, сходим, — согласился он с более чем вежливой готовностью.
Она его подарила своей ободряющей, сочувственной улыбкой, улыбкой, снимавшей все сомненья, как бальзам снимает раздраженье кожи. И она спокойно понесла свою шляпку, платье, свою речь, свою непринужденность прочь от этих величавых сводов. И они спустились в гриль, где было относительно шумно и где ее розы, пожалуй, казались менее неожиданными, чем ассирийский шлем, а платье всюду находило дальнюю и близкую родню.
— Я насчет этих ресторанов не очень, — призналась она над жареными почками.
— Да? — отозвался он с сомненьем. — Прошу меня извинить. Но мне показалось на днях…
— Ах, ну да, — перебила она, — на днях я очень даже в то место пойти хотела, очень даже. И девушка на почте мне рассказывала, что это изумительное место. Так и есть. Там замечательно. Но только постыдились бы еду такую подавать. Помните их палтуса? Палтус! Да он и рядом с палтусом не лежал. И если б его минуточку готовили, а то морили-парили час целый, да потом еще ждали. А цены! Ну да, я заглянула в счет.
— По-моему, было невероятно дешево.
— Но не по-моему! — отрезала она. — Как подумаешь, что у хорошей хозяйки за все про все уходит по десять шиллингов на душу за неделю… Это же прямо безобразие! А тут, небось, еще дороже?
От этого вопроса он уклонился.
— Тут вообще прекрасно кормят, — решился он. — Собственно, я почти не знаю таких мест в Европе, где кормили бы лучше, чем здесь.
— Не знаете? — переспросила она участливо, и в тоне ее звучало: «Но я-то уж одно такое местечко по крайней мере знаю!».
— Говорят, — продолжил он, — тут не употребляют масла, которое бы стоило меньше трех шиллингов за фунт.
— Никакое масло им трех шиллингов за фунт не стоит.
— Не в Лондоне, — он не сдавался. — Его привозят из Парижа.
— И вы такому верите?!
— Ну да.
— Ну, а я не верю. Кто платит больше шиллинга с полтиной за фунт масла — тот дурак, вы уж простите мне такие выраженья. И не то чтобы масло у них очень уж хорошее. Я такое в Патни по восемьдесят пенсов покупаю.
И вдруг он почувствовал себя мальчишкой, которому еще учиться и учиться у строгой, заботливой сестры.
— Спасибо, не надо, — суховато отклонила она предложение официанта подбавить жареной картошки.
— Только потом не говорите, что все у них простыло, — засмеялся Прайам.
И она тоже засмеялась.
— Хотите расскажу, почему я против этих ресторанов, — продолжала она. — Тут не знаешь потому что, откуда у них продукты берутся. Когда у тебя кухня со столовой рядышком, а продукт на глазах у тебя от самой той минуты, когда тележка его привозит, — тогда ты знаешь, что к чему. И блюда с пылу с жару можешь подавать. Это я понимаю. А у них где кухня?
— Где-то внизу, — отвечал он виновато.
— Подвальная кухня! — крикнула она. — Да в Патни с подвальной кухней дом просто с рук не сбудешь! Нет! По мне, так пусть и вовсе их не будет — отелей этих и ресторанов, и уж точно не на каждый день.
— И все же, — он себе позволил возразить. — В отелях очень удобно.
— Да? — а в голосе звучало: докажите!
— Ну, например, здесь в каждом номере — телефон.
— В спальне то есть?
— Да, в каждом номере.
— Ну, мне он и даром не нужен, этот ваш в спальне телефон. Да я бы глаз не сомкнула, знай я, что у меня телефон в спальне! То и дело к нему бегай! И откуда ж ты узнаешь, кто это тебе звонит? Нет уж, не надо мне его! Это, конечно, неплохо для джентльменов, какие не привыкли к уюту в полном смысле, как я это слово понимаю. Но только…
Он понял, что если не отступится от своих взглядов, скоро от громады Вавилона не останется камня на камне. К тому же миссис Чаллис и в самом деле заставила его почувствовать, что на всем своем пути он был лишен самого ценного в жизни — неприбранный, наивный, неприкаянный. Совершеннейшая для него новость! Ибо если была хоть одна мужская особь по всей Европе, уверенная в том, что всегда успешно сможет перепоручить другим заботу о своем уюте, такою особью был Прайам Фарл.
— А я никогда не бывал в Патни, — отважился он, меняя разговор.
Как трудно бывает говорить правду
Она в ненавязчивых подробностях ему описывала Патни и свою жизнь в Патни, и перед мысленным взором его постепенно вырисовывались образы, дотоле ему неведомые. Патни явно обладает всеми преимуществами городского процветания. Расположен он на склоне горы, подножие которой омывает величественный поток под названьем Темза, усеянный живописными баркасами и красочными гребными лодками; над потоком висит горбатый мост, и по этому мосту, на беленьком омнибусе, вы катите себе, когда вам надо, прямо в центр Лондона. Есть в Патни улица с прекраснейшими магазинами, есть чисто деловая улица; там невозможно спать от грохота моторов; но на закате она вся искрится в своем великолепье. В Патни есть театр, есть мюзик-холл, зал для собраний, концертный зал, рынок, пивоварня, библиотека, и кафе — не хуже чем на Риджент-стрит (правда, миссис Чаллис не по вкусу их хваленый китайский чай); еще есть церкви и часовни; и Барнский луг, как пойдешь в одну сторону, и Уимблдонский луг, если пойдешь в другую. Дом миссис Чаллис на Вертер-стрит, которая очень удобно отходит от Главной улицы, прямо там, где рыбный магазин — вот где всегда есть настоящий палтус, правда, в понедельник с утра, конечно, лучше его не брать. Патни такое место, где вы живете без печали, без забот. У вас свой домик, своя мебель, и вы всё знаете, знаете все цены, вдоль и поперек исследовали природу человеческую и научились прощать людские слабости. Служанку вы не держите, с ними так трудно, со служанками, ничего-то не умеют сделать так, как сами вы умеете. Есть у вас уборщица, на случай, если лень нападет, или весь дом вверх дном надо перевернуть, чтобы как следует проветрить. С этой уборщицей, с парой перчаток и газовой плитой — домашняя работа для вас пара пустяков. Никогда вас не допекает спесь, зависть или желанье точно знать, что делают богатые, чтобы потом с них обезьянничать. Читаете вы в охотку, если ничего поинтересней нет на примете, конечно, лучше иллюстрированные газеты и журналы. С искусством вы, пожалуй, в общем, дела не имеете, и вам в голову даже не приходит, что из-за него можно ночами ворочаться без сна. Вы, в общем-то, богаты, а все потому, что тратите вы меньше, чем получаете. Никогда не рассуждаете вы об истинных причинах явлений, не ломаете себе голову над тем, как, возможно, будет развиваться общество в течение ближайшего столетия. Если вы увидите на улице несчастного старичка или старушку, вы купите у несчастного старичка или старушки коробок спичек. Что касается общественного устройства, ваш справедливый гнев вызывают главным образом богачи, которые, делая деньги, последний кусок хлеба изо рта готовы вырвать у голодного человека. Единственное, что слегка омрачает полное счастье в Патни — это шум на Главной улице, нехватка приличных прачечных, и манеры пожилой дамы на почте — миссис Чаллис на почте нравятся другие дамы), и то, что нету в доме подходящего мужчины.
Жизнь в Патни представилась Прайаму Фарлу чем-то, приближающимся к Утопии. На него дохнуло романтикой — романтикой здравого смысла, простоты и доброты. Он начал понимать, что собственное существование его до этого дня все сплошь было несчастным, тщетным стремленьем к невозможному. Искусство? Но что такое искусство? К чему оно ведет? Ему вдруг плевать с высокой горы стало на искусство, вдруг опротивели все формы деятельности, к которым он привык, которые ошибкой принимал за жизнь.