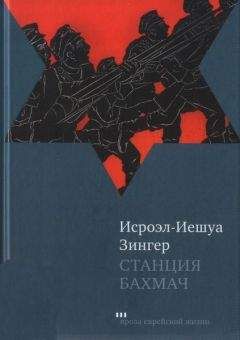— Ну, что скажешь, чернявый? — спрашивал народ в вагоне у Пинхаса Фрадкина. — Ведь вы, евреи, народ хитрый, умный, все знаете, а ты, кучерявый, ничего не говоришь, только молчишь и смотришь.
Пинхас Фрадкин заворачивал махорку в бумагу и ничего не отвечал солдатам.
В поношенной шинели, в стоптанных сапогах и облезлой папахе на черной копне волос, которые он снова отрастил, потому что унтер-офицеры теперь ничего не значили, оборванный, усталый, но широкоплечий, сильный, возмужавший и огрубевший за четыре года войны, Пинхас Фрадкин, конечно, видел и слышал все, что происходило вокруг него, но все это его не касалось. Он не встревал в речи агитаторов на границах, не ввязывался в споры с демобилизованными солдатами в ползущем поезде, которые пытались втянуть его в препирательства. Что могли значить для него все эти люди и речи, когда он был так далек от них? Когда он был на Западе, а сердце его — на Востоке? Как будто бы ничего не произошло за все эти четыре года, с тех самых пор, как его забрали в одесском порту. Его чернокудрой головой по-прежнему владела одна мысль, как и тогда, когда он зубрил математику и латынь и ходил в порт смотреть на пришедшие корабли. Он хотел туда — на Восток. Каждый лишний день в ползущем поезде был для него мукой. Он хотел как можно скорее вернуться домой, повидать родителей, братьев и сестер, порадоваться с ними после четырех лет войны, сразу после этого распрощаться и отплыть на первом же корабле, уходящем из одесского порта. Он теперь почти не вспоминал о математических задачах и греческих классиках, над которыми когда-то так тяжко корпел. В его голове остались только обрывки фраз, но он даже не думал о том, чтобы начать учиться заново. Его окрепшим, огрубевшим рукам хотелось только одного — копать землю в какой-нибудь еврейской колонии под Иерусалимом или сжимать винтовку, защищая еврейские поселения от нападений врагов.
Лишь однажды он встал в строй в этой погрузившейся в хаос стране. Было это в большом городе, расположенном недалеко от Одессы, где товарняк застрял на несколько дней. Отправившись в город, чтобы перекинуться словечком с евреями после долгих недель вагонной брани, похабщины и антисемитских насмешек, страстно желая услышать от евреев какую-нибудь новость оттуда, с Востока, он вдруг попал на свой праздник. Еврейские студенты и люди постарше, женщины, даже дети маршировали с бело-синими флагами и свитками Торы по улицам в сопровождении местной клезмерской капеллы, игравшей «Атикву»[82]. Опустившиеся австрийские солдаты: чехи, поляки, евреи, босняки, герцеговинцы, — расхристанные, оставшиеся без командиров, потерявшие дисциплину, но еще державшие край в своих руках, зевали, глядя на евреев, марширующих в честь своей долгожданной Земли обетованной, которую им дал английский лорд[83], враг Австрийской империи. Их, этих усталых солдат, больше не волновало ни то, что их страна уже проиграла войну, ни то, что происходит на временно оккупированной ими территории. Их не касались ни музыка, ни приветственные восклицания в честь Англии и ее лорда, создателя какого-то государства в Азии, из-за которого еврейские студенты срывали голоса в крике «Да здравствует!».
Пинхас Фрадкин в своих стоптанных сапогах маршировал вместе с толпой и громче всех распевал слова гимна на иврите. Разгоряченный как музыкой и зажигательной речью молодого человека с бородкой, так и тем, что вокруг него были евреи, чувствуя свою общность с окружающими его людьми, он скинул облезлую овчинную папаху со своей кудрявой головы и на пламенном иврите обратился к толпе, хоть никто его об этом и не просил. Толпа, выпучив глаза, смотрела на оборванного солдата, заросшего и грязного, который в своем диком наряде выглядел как бандит. Пламенный иврит в устах этого странного оборванца прозвучал совершенно неожиданно, словно чудо. Когда Пинхас Фрадкин закончил свою речь стихами Иегуды Галеви «Я на Западе, а сердце мое на Востоке», ему долго аплодировали.
После этого путешествие в ползущем поезде стало для Пинхаса Фрадкина еще тяжелее. Вагонная вонь, похабщина, брань, но больше всего — оскорбления, насмешки и угрозы в адрес евреев были просто невыносимы. Чем сильнее не терпелось Пинхасу Фрадкину добраться до дома, тем медленнее тащился поезд, который больше стоял, чем шел. Ржавые, утопающие в грязи и заросшие бурьяном рельсы лопались под изношенными, скрипящими и давно не смазанными колесами. Часто оси перегревались, и приходилось на время останавливать поезд. Кроме того, не было угля для локомотива. Около каждого леса машинист останавливал состав и грозил солдатам, что не двинется с места, пока они не сходят в лес и не притащат дров для машины. Солдаты, одуревшие от грязи и вшей, кишевших в их одежде, равнодушно слушали промасленного машиниста и отнекивались. Каждый сваливал работу на другого. Когда же они в конце концов отправлялись в лес, то потом забывали вернуться: или растягивались на земле, расправляя кости после недель тесноты и давки, и засыпали так крепко, что их невозможно было добудиться, или забредали в деревни, выпрашивая хлеб у крестьян и любовь у солдаток, чьи мужья были убиты на фронте или пропали без вести в плену. Многие возвращались пьяными от самогона, которым их поили крестьяне. Они дурели от сивухи и оплакивали свою участь и оставленных дома жен, которые наверняка променяли их на других, как они, чужаки, заменили мужей солдаткам, встреченным на пути. Тогда они клялись отомстить всем: неверным женам, помещикам, офицерам, но больше всех — Пинхасу Фрадкину и его народу, который, как говорили, был виноват во всех несчастьях.
— Ну, чего молчишь, дьявол черномазый? — приставали солдаты к Пинхасу Фрадкину, такому же голодному, усталому и грязному, как они. — Все молчишь да смотришь, кучерявый!
Пинхас Фрадкин вынимал щепоть махорки из глубокого кармана своей шинели и сворачивал самокрутку из мятой прокламации, которую ему дали на какой-то станции. У него не было ничего общего ни с вонючим поездом, ни с его пассажирами, ни с их плачем и смехом, проклятиями и песнями, разговорами, жалобами и перепалками. Он уже видел, как вернется домой, порадуется встрече с родными и поскорее отправится в одесский порт, в котором, как в старое доброе время, вновь бросают якорь корабли.
2
После каждой субботы Пинхас Фрадкин снова принимался укладывать свой скудный скарб в солдатский кожаный ранец, доставшийся ему в наследство от убитого австрияка, и протягивал руки к родителям, чтобы проститься с ними перед отъездом в Одессу. И каждый раз его мать выбрасывала вещи из ранца и клялась всеми клятвами на свете, что не позволит ему уехать. Вместе с матерью его удерживали и отец-раввин, и многочисленные — мал мала меньше — братья и сестры, и соседи-колонисты, а среди них настойчивее всех — самый старый и самый уважаемый колонист, реб Ошер, староста.
Пинхас Фрадкин ничего не мог поделать с той добротой, которая обступила его дома после четырех лет нужды и ненависти, с тем теплом, которое кутало его и ласкало, словно домашняя перина, которой его с головы до пят перед сном укрывала мать.
С той самой минуты, как Пинхас Фрадкин пришел домой пешком со станции и мать обхватила его голову и прижала к своей большой, мягкой груди, он почувствовал это тепло и связь, которую так просто не оборвешь. От матери пахло парным молоком, кисло-сладким хлебом с тмином, пахло постельным бельем и телом, которое родило и вскормило множество детей. Она ни за что не хотела отпустить грязную солдатскую голову от своей вздымающейся груди, хотя ее мужу и детям тоже не терпелось обнять вернувшегося.
— Рохл, дай мне поздороваться с Пинхасом, — просил муж.
— Мама, дай нам посмотреть на Пинхаса, — требовали дети.
— Пинеле, сыночек мой, — шептала Рохл Фрадкина и целовала колючие, заросшие щеки и окрепшие, загрубевшие руки своего сына.
Реб Авром-Ицик, деревенский раввин, не слишком долго лобызался с сыном. Не очень-то он умел целоваться, стыдился этих бабьих штучек и, целуя сына, попадал ему своими заросшими бородой губами больше в нос, чем в губы. Но его добрый, нежный, голубиный взгляд, его теплые, мягкие руки были исполнены счастья не меньше, чем поцелуи и объятья матери. Лица обнимавших и целовавших его братьев и сестер — мал мала меньше — так и лучились радостью. Пинхас узнал не всех, так сильно они изменились за эти несколько лет, особенно младшие мальчики и девочки, которые очень выросли и стали совсем большими. Каждый миг он чувствовал на себе другие руки, другие губы, полные губы, какие были у всех Фрадкиных. Только старшая сестра, Шифра, расцеловавшись с братом, произнесла слова, которые никто не решался сказать, хотя они были у всех на уме:
— Пинхас, может, умоешься?.. Я налью тебе шайку горячей воды…
Пинхас покраснел от слов сестры, которые напомнили ему о том, как он грязен, хотя сам он этого уже не чувствовал. Теперь ему ничего не хотелось — ни есть, ни разговаривать — только мыться. Сперва он помылся одной шайкой воды, но, увидев, что вода почернела от первых же споласкиваний, попросил согреть вторую, третью. Когда же, после этой домашней помывки, Пинхас все-таки не смог отскрести многолетнюю грязь, отец велел мальчикам истопить деревенскую микву, хотя посреди недели ее обычно нагревали только тогда, когда какой-нибудь еврейке требовалось омовение. В горячей тесной микве, куда нужно было спускаться по множеству кривых, шатких и скользких деревянных ступенек, Пинхас наконец смыл всю грязь со своего намыкавшегося тела. Отец сам плескал горячую воду из ковша на каменку и охаживал сына веником с головы до пят. Пинхас аж сопел от удовольствия.