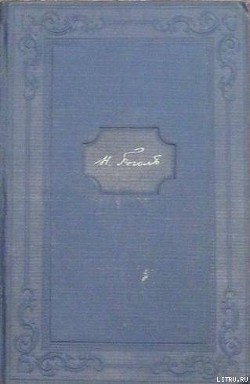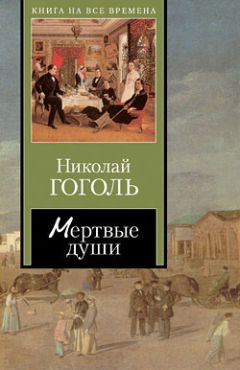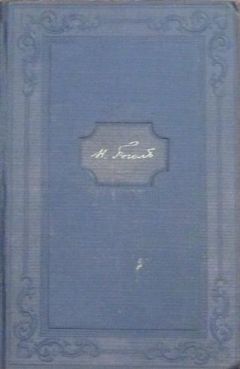о том, какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою и терпеньем, да подвизались бы на добрый труд, имея лучшую цель. Боже мой, сколько бы вы наделали добра! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добыванья своей копейки, да сумели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добыванья своей копейки, боже мой, как процветала <бы> наша земля! Павел Иванович, Павел Иванович! Не то жаль, что виноваты вы стали пред другими, а то жаль, что пред собой стали виноваты — перед богатыми силами и дарами, которые достались в удел вам. Назначенье ваше — быть великим человеком, а вы себя запропастили и погубили».
Есть тайны души. Как бы ни далеко отшатнулся от прямого пути заблуждающийся, как бы ни ожесточился чувствами безвозвратный преступник, как бы ни коснел твердо в своей совращенной жизни; но если попрекнешь его им же, его же достоинствами, им опозоренными, в нем <всё> поколеблется невольно, и весь он потрясется.
«Афанасий Васильевич», сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки: «О, если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество. Клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь. Спасите, благодетель, спасите!»
«Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решился на это, но ведь князь справедлив, — он ни за что не отступит».
«Благодетель, вы всё можете сделать. Не закон меня устрашит, я перед законом найду средства, но то, что непов<инно> я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка… спасите». Он обнял ноги старика, облил их слезами.
«Ах, Павел Иванович, Павел Иванович», говорил старик Муразов, качая <головою>: «как вас ослепило это имущество. Из-за него вы и бедной души своей не слышите».
«Подумаю и о душе, но спасите».
«Павел Иванович», сказал старик Муразов и остановился… «Спасти вас не в моей власти, вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павел Иванович, я попрошу у вас награды за труды: бросьте все эти поползновенья на эти приобретенья. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, а у меня его больше, чем у вас, я бы не заплакал. Ей, ей, <дело> не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять. Вы уж пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым, добрым людям, или, если знобит сильное желанье оставить по себе потомков, женитесь на небогатой, доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстит<ельные> прихоти. Пусть и он вас позабудет. В нем нет успокоенья. Вы видите: всё в нем враг, искуситель или предатель».
«Непременно, непременно. Я уже хотел, уже намеревался повести жизнь, как следует, думал заняться хозяйством, умерить жизнь. Демон-искуситель сбил, совлек с пути, сатана, чорт, исчадье».
Какие-то неведомые дотоле, незнакомые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему. Как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то далеко, что-то заранее подавленное из детства суровым, мертвым поученьем, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, и как будто то, что <было подавлено> суровым взглядом судьбы, взглянувший на него скучно, сквозь какое-то мутное, занесенное зимней вьюгой [окно, хотело вырваться на волю]. Стенанье изнеслось из уст его, и, наложив обе ладони на лицо свое, скорбным голосом произнес он: «Правда, правда».
«И познанье людей, и опытность не помогли на незаконном основаньи. А если бы к этому да основанье законное… Эх, Павел Иванович, зачем вы себя погубили? Проснитесь: еще не поздно. Есть еще время».
«Нет, поздно, поздно», застонал он голосом, от которого у Муразова чуть не разорвалось сердце. «Начинаю чувствовать, слышу, что не так, не так иду, и что далеко отступился от прямого <пути>, но уже не могу. Нет, не так воспитан. Отец мне твердил нравоученья, бил, заставлял переписывать с нравственных правил, а сам крал передо мною у соседей лес и меня еще заставлял помогать ему. Завязал при мне неправую тяжбу; развратил сиротку, которой он был опекуном. Пример сильней правил. Вижу, чувствую, Афанасий Васильевич, что жизнь веду не такую, но нет большого отвращенья от порока: огрубела натура, нет любви к добру, этой прекрасной наклонности к делам богоугодным, обращающейся в натуру, в привычку. Нет такой охоты подвизаться для добра, какова есть для полученья имущества. Говорю правду — что ж делать».
Сильно вздохнул старик.
«Павел Иванович, у вас столько воли, столько терпенья. Лекарство горько, но ведь больной принимает же его, зная, что иначе не выздоровеет. У вас нет любви к добру, — делайте добро насильно, без любви к нему. Вам это зачтется еще в большую заслугу, чем тому, кто делает добро по любви к нему. Заставьте <себя> только несколько раз, — потом получите и любовь. Поверьте, всё делается. Царство нудится, сказано нам. Только насильно пробираясь к нему, насильно нужно пробираться, брать его насильно, Эх, Павел Иванович, ведь <у> вас есть эта сила, которой нет у других, это железное терпенье — и вам ли не одолеть? Да вы, мне кажется, были бы богатырь. Ведь теперь люди без воли все, слабые».
Заметно было, что слова эти вонзились в самую душу Чичикову и задели что-то славолюбивое на дне ее. Если не решимость, то что-то крепкое и на нее похожее