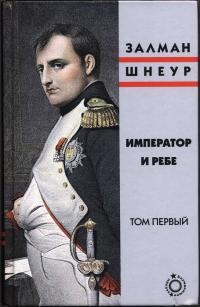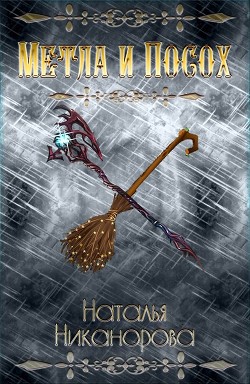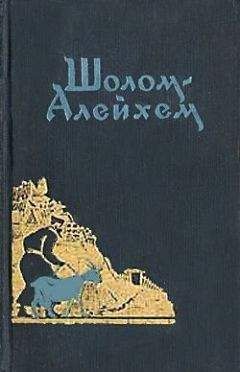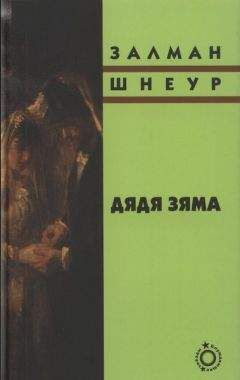Закай увидел, что Иерусалим обречен, он стал умолять Веспасиана: «Подари мне только Явне и его мудрецов». И от этого святого города Явне, возможно, происходит все наше сегодняшнее еврейство… Именно этого я и хочу, Нота. Мой Явне — это Устье в Чириковском повете, как ты говоришь…
— Как ты можешь сравнивать? — развел руки Нота. — Там — разрушение Храма, а здесь — расцветающая еврейская жизнь. Россия становится все больше и сильнее изо дня в день. Тут нужны головы, нужны руки. Это очень большая разница!
— Зависит от того, как это воспринимать. Для меня, Нота, друг мой, разрушение началось с тех пор, как умер Потемкин. Это был настоящий русский — с большим желудком и с большими страстями, но и с большим сердцем тоже, с большим масштабом. Я и ты, и другие такие, как мы, только следовали за ним, мостили те дороги, которые он прокладывал в новые провинции. Как на цветной ширме он показал мне настоящее лицо России, которая не лучше и не хуже других возвысившихся государств: еврей сделал всю работу, теперь еврей может убираться вон… После внезапной смерти Потемкина я пытался договориться и с высшими, и с низшими его преемниками, от фельдмаршала Суворова до последнего мелкого чиновника, состоящего при фураже. И… и вот!
— И вот?
— Плохо, брат! Мы уже, кажется, можем уходить. Авром Перец, мой зять, и твой сват-лепельчанин со всеми их успехами при Адмиралтействе тоже отнюдь не на железных ногах стоят. Пусть только русский флот немного усилится, пусть он заткнет дыры, пробитые в нем последними войнами, пусть прикроет новые для него берега Черного моря, тогда увидишь! Им тоже велят уходить. Либо креститься, либо уходить! Если мы будем еще живы, то сами это увидим и услышим.
— Креститься, вот как? Фоня?.. Нет! Не в его природе вмешиваться в дела чужой веры.
— Он пока еще слишком занят собой. В его государственном котле еще перемешиваются народы всякой крови и всякой религии. Он туда их засунул слишком много для одного раза: татары, поляки, турки, финны, евреи… Но скоро все это начнет вариться. Святейший Синод начнет пробовать этот великий борщ и поморщится… Прежде всего, поморщатся по поводу нас, евреев, потому что мы — самая незнакомая для них пряность, самые жесткие корешки. Когда все остальные инородцы уже размягчатся, уже будут таять во рту, мы все еще будем одеревеневшими, как наши филактерии, не рядом, конечно, будь упомянуты, и жесткими, как пергамент наших свитков Торы. Поэтому прежде всего возьмутся за нас: либо примите наши обычаи и нашего бога, либо…
То, что реб Йегошуа Цейтлин так красочно и образно описывал, напомнило реб Ноте сухие идеи Адама Чарторыйского относительно того, как осчастливить и оживить старый еврейский народ — и среди москалей, и в его любимой Польше. Казалось, устами реб Йегошуа Цейтлина заговорил сам дух пророчества. Как же великолепно он разбирается в высокопоставленных иноверцах! Он видит их насквозь… Однако реб Нота ничего этого не сказал вслух. Для этого он был слишком упрям.
— Так что же ты хочешь делать со своим Устьем? Чем тут могут помочь даже десять таких академий?
— Это поможет нам самим укрепиться. Поможет еще глубже погрузиться в себя, еще теснее сплотиться. Сейчас надо стучаться во все еврейские двери. Выпрашивать немного залежавшегося еврейства у каждого, собирать рассеянные искры Торы и мудрости во всех общинах. Точно так же, как сейчас я собрал старые чехлы для свитков Торы, старые пергаменты, старые меноры, украшенные воротники талесов и бокалы для кидуша — остатки всего, что у нас было рассыпано, растоптано, осквернено во время всяческих войн, восстаний и беспорядков на всех границах: турецких, польских, татарских. Нам сейчас необходим новый Явне. Скрытый если не в горах Эрец-Исраэль, то хотя бы среди лесов и полей Чириковского повета. Мы должны там переждать, переболеть, а потом выйти окрепшими и здоровыми и взять то, что нам причитается…
— Ах, ах… — замахал обеими руками реб Нота. — Это все пустые фантазии, Йегошуа! Пережидать — это хорошо для таких богачей, как ты, которые могут выстроить дворцы среди чириковских лесов и полей. Но где пережидать бедным евреям? Где пережидать преследуемым еврейским общинам?.. Они не могут ждать. А ты сам — ты будешь выкармливать в своем Устье меламедов и бедных холостяков! Чего ты добьешься с такими просиживателями штанов, когда выйдешь, как ты говоришь, годы спустя? Кто все для них приготовит? Теперь придется долго ждать! Чего не берут зубами и ногтями, трудом и разумом, того просто не получают. Годы спустя, ха-ха-ха! Ни твои мудрецы из Устья не будут знать Россию, ни она их. Получится та же самая история, что и с Хони Меагелем, [369] который проспал семьдесят лет… [370]
— Не надо так кипятиться, Нота! — попытался остановить его Цейтлин. — Я только хотел сказать…
— Оставь, оставь! — продолжал реб Нота. — Даже не думай, что тебе позволят спокойно сидеть и заниматься своими науками и делами Грядущего мира, как какой-нибудь квочке на яйцах. Тебя стащат с твоей кладки, а саму кладку разобьют. Ни следа не останется от твоего Явне и твоего Устья. Храм можно строить только среди народа, который его защищает. Среди тысяч и десятков тысяч людей, окружающих его со всех сторон. Вот когда весь народ вокруг более-менее обеспечен, когда он пашет и сеет, и приносит первые плоды, первую шерсть и первое полотно, тогда Храм состоялся, тогда он может существовать. Иначе все твои жрецы с первосвященником во главе вымрут на радость врагам Израиля от голода…
— Не утруждай себя, Нота. Мне это известно не хуже, чем тебе. Я хочу только сказать, что если нет духовного центра, то нет и народа. Сначала создается Тора, а уже потом — народ…
— Ах, ты знаешь, что Виленский гаон, дай ему Бог долгих лет жизни, уже обеспечивает нас изучением Торы и выполнением заповедей. Нам этого хватит еще на много лет. Тебе, Йегошуа, удобно перемалывать уже смолотую муку. На свой манер, конечно. Это, безусловно, легче, чем пахать и сеять, пачкаться в земле и навозе, терпеливо ждать в коридорах, писать прошения, носиться в мыле, упрашивать, подмазывать, где надо… Поэтому ты сейчас оставляешь меня одного. А я тебе на это говорю то, что Мордехай сказал Эсфири: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». [371]
— Не проклинай, не проклинай, Нота! — улыбнулся Цейтлин, немного испуганный такой резкостью. — А что,