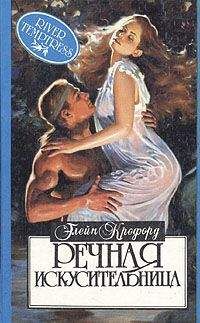Хозяйка снова умолкла. Голубев жадно затягивался болгарской сигаретой, ждал.
– Тоже – жили тогда, как подумаешь, страшно делается! Семнадцать душ в одном дому… – очнулась она. – Матери от золовок, говорит, никакого спасения не было! Дома – золовки с деверьями, на улице – Кузя этот проклятый, того и гляди, ворота дегтем обмарает…
А как вошли в колхоз, так Прокофий бригаду начал водить на корчевки, такое было ему задание. Земли-то у нас тут мало, одни кулиги в лесу. Ермаково поле тут, а Ильченковых за балкой, а Руденковых – за волчьим логом. И начали промеж кулигами вырубать лес, чтобы вскорости машинам разворот дать… На пожоге у нас и картошка тут хорошо родила… Забродин, председатель приезжий, самых крепких казаков на это отрядил и флаг им дал переходящий, чтобы поспешали… Ну, и как-то там вышло, что упала кислица обхватная на Прокофия, отца мово…
– На рубке? – подался Голубев к Агриппине.
– На рубке, само собой. Кислица-то в подлеске стояла, густота кругом. А только посля, когда подбежали к тому пню, то и видят, что кислица не по наклону шла, чуть в сторону. Это уж дедушка Смоленое определил. Он аж с турецкой войны Георгия имел, наводчиком при пушке там состоял и глазом понимал эти все нивелиры… «Кто, – говорит, – тут был?» А никого будто и не было, кажный открещивается. А вечером он перевстрел мать да и говорит: «Вроде, мол, Кузьма Надеин в том подлеске шурудился. Глаза, говорит, конечно, могут и подвести по старости, но вроде бы он!»
– Уточнили это? – спросил Голубев.
– Да как же это уточнишь, когда той же ночью и дедушку тоже… Колом оглушили, а человек-то старый.
– Той же ночью?
– Да я-то не знаю, а мать говорила, что как шел он от нее, так и до порога не дотянул. Двух шагов, может, и не хватило…
– А этих-то хоть нашли? – заволновался Голубев.
– Нашли, нашли, как же! Гуменновы братаны, Никифор да Ванька-младший, друзьяки Кузины… Токо это уж не сразу. Они опосля еще двух, присланных из Ростова следователей постреляли, ну и попались на этом…
Размотался клубок-то спустя время.
– Ну и как же с Надеиным-то? Он-то с братьями дружбу водил, а почему уцелел?
– Да он-то с ими не то что дружбу, а и самогон чуть не каждую ночь глушил, проклятый! И мать мою об этом на суде спрашивали. А как вину-то докажешь? У него, как у хитрой лисы, в каждой норе по три отнорка, его и десятью толкачами в одной ступе не утолчешь! Он и на них, оказывается, писал в те поры, куда следовает, бумаги припас. А в тот вечер, когда дедушку Смоленова порешили, так он в Совете как раз сидел, на виду у всех!..
– Н-да.. – Голубев закурил снова. – Ничего не скажешь. Алиби…
– Вот так-то, милый, – еще раз вздохнула хозяйка. – Размотался клубок весь, до конца, только матери моей с той поры во вдовах пришлось ходить, и я как раз в эту осень у нее родилась, без отца уж… Так без отца и выросла…
Возникла минутная тишина, и Голубев вдруг очнулся, уяснил что-то важное для себя.
– Вы? Родились? Это в каком же году? – жадно спросил он.
– Да в тридцать первом уж я родилась-то, – сказала Агриппина и рукой провела от лба до подбородка, будто снимая невидимую паутину. – В тридцать первом…
Боже ты мой! Она, эта женщина, была его ровесницей! А ведь казалась лет на десять старше… Как же это так, на вольном-то деревенском воздухе, о котором столько сокрушаются горожане!
– И так-то билась со мною мать – одна, и в поле, и на ферме, бывало, потому что никаких этих яслей и детсадов-то еще не было у нас. Помню, в тридцать девятом ее на выставку в Москву посылали, так она чуть не отказалась: дитя, говорит, не на кого бросить. А председатель ее устыдил… Так она по пути заехала в Шахты да меня там оставила у деверя, он уж там врубмашинистом был, Любкин дед… И правда, хорошо она съездила, медаль оттуда привезла, Калинина самого видала. До сорок второго-то мы с ней уж хорошо дожили…
Сигарета у Голубева потухла, он с удивлением смотрел на женщину и припоминал свои беды, как он жил с матерью перед войной, как тяжело приходилось ей с ним.
– А в сорок втором – оккупация? – кивнул с сочувствием.
– Тут Гитлер заявился, и наши все – в горы, а мать-то связной была… Хорошо ходила, умела все выведать и своим передать. Все, говорят, по лесу пропавшую телушку искала с тонкой хворостинкой… И схватили они ее, проклятые, под Гуамской… В ноябре дело-то получилось, аккурат посля праздников. Мне-то двенадцатый год толечко…
Она прикрыла губы концом платка, задышала глубоко и прерывисто. Видать, не часто приходилось ей вспоминать старое, ворошить больную память, а теперь так вот получилось, что не обойти, не заглушить прежнего. Сказала с одышкой:
– Все руки они ей перебили железом, все косточки изломали. Надругались всяко, будто звери какие… А когда отрыли ее посля, так старухи наши не допустили меня к ней, чтобы умом-то я не тронулась, боже спаси…
Самовар уже едва теплился, но Голубев нацедил еще из крана, добавил крепкой заварки и придвинул стакан хозяйке. А сам закурил вторую сигарету кряду, молча слушал, полуприкрыв глаза. Профессиональное бесстрастие давно уже оставило его. Он был не только живым соучастником этой жизни, но и чувствовал в ней отголоски и созвучия своей судьбы. Их объединяло что-то общее, вневременное, и поэтому он слушал женщину отзывчиво и грустил вместе с нею, и к горлу подкатывало в тех самых местах, когда у хозяйки срывался голос и она прерывала рассказ.
– Так вот и пошла она, моя жизнь, – пожаловалась она откровенно. – В колхозном сиротстве, у всего хутора на побегушках…
– Председатели-то хоть попадались хорошие? Или – всякие?
– Да неплохие были все люди, а ведь наше дело какое, – сказала Агриппина, окрепнув голосом. – Наше дело такое бывает, что никакой добрый председатель не поможет… Ну, вы подумайте: все хозяйство на нас, девках, держалось, и то бы ничего, а подросли мы к сорок восьмому да сорок девятому году и остались бобылихами. Женихи-то наши где были? Все эти возраста будто ветром каким развеяло. Только могилки по всей земле – какая у Волги, какая и тут, в горах, а больше все – в Галициях, да на каком-то Балатоне, да под Берлином, чтоб он пропал, окаянный! Похоронки эти, бывало, почта не успевала носить…
Агриппина отхлебнула тепловатого, негреющего чая, горько улыбнулась:
– И как раз не чужих, а наших женихов поубивало, милый ты мой! Начисто их выбило, а какие остались, так редко какой в хутор вернулся. Одни сопляки по улицам бегали, а и те курить начинали в четырнадцать лет, чтобы за женихов сходить. Смех и горе… Пойдем, бывало, вечером по улице, одни бабы, и промеж нас один Иван Ежиков, Васькин брат, на деревянной ноге, с гармошкой. До того весело!
– А то еще старики начали с ума сходить, – продолжала она. – Кузьма-то с матерью с моей не поладил в молодые года, так и ко мне клинья подбивал. Говорит: давай, Грушка, я старуху брошу, тебя как хошь обеспечу и от колхозной работы освобожу… Бабка моя, мол, одной ногой уже на том свете, а я ишо годный на всякую деятельность… Ну, я ему тогда показала казачью ухватку, черту старому!.. Он уж потом жалился – девка эта, мол, хуже тех котов, что на горб кидались… Тьфу, будь он проклят!
Она плюнула в угол и успокоилась, и Голубев тоже вздохнул с облегчением.
– Так вот и пошла наша жизнь, милый человек. Собиралась я за Ивана, да ведь он весь израненный вернулся тогда, помер вскорости от какого-то осколка. А их много в нем осталось, в живом-то… И горевали мы об нем всем хутором вместе с его старухой матерью. У нее было четверо, и все ребята добрые, и отец непьющий был. Так отец-то с двумя сыновьями на фронте остался, аж под самым Будапештом, говорят, а Иван дома помер. Васька один остался, по малолетству… Он, Василий-то, может, потому и сидит дома, никуда не трогается, что матерю ему жалко, не может он ее бросить. Его уж и в Краснодар на завод звали, там один парень из нашенских начальником цеха, так хорошо его знает, и с Севера ему дружки писали, чтобы приезжал тракторным механиком, снег разгребать, так он и слухать не хочет. Потому что мать у него тут, в хворости тоже, как же ее бросишь-то? Ведь один он остался у нее, из четверых-то. Это уж вовсе надо совесть потерять… Ну, да теперь-то и мать рада: Любка в хутор вернулась, и управляющий с них глаз не спускает, шифер вон на крышу дал вроде как в премию… – она приумолкла и вдруг всплеснула руками, очнувшись в радости. – О-о, как заговорились-то мы, господи! Может, самовар бы ишо разогреть? Скоро и Люба уж должна прийтить.
Она кинулась ставить самовар, пошла за угольями в чулан, а Голубев встал из-за стола, размял плечи и локти, спросил участливо:
– Так, значит, и живете в одиночестве?
Хозяйка со звяком накинула жестяную трубу на горловину самовара и сама притулилась спиной к холодному щитку голландки, а руки упрятала под платок.
– Так вот и коротаем век с Любой. Вдвоем-то с нею ничего, поглядишь на девку, хоть порадуешься. И парень ей попался, видишь, хороший, самостоятельный. Скоро уж свадьбу играть будем, я за матерю ей сяду.